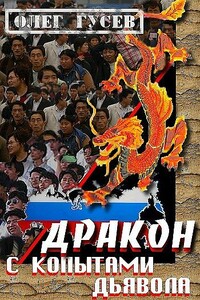Древняя Русь и Великий Туран | страница 47
Один и тот же слог, произнесённый в разной тональности, может иметь до четырёх совершенно разных значений. Например, «дао» это: и «остров», и «опрокидывать, лить жидкость», и «путь, дорога», и «до, доходить, достигать, прибыть»[38]. Поэтому точный смысл какого-то сложного понятия даже китаец может уяснить, лишь увидев его прописанным в виде иероглифа.
Поскольку хунхузы писать иероглифы не умели, то Арсеньев по возвращении домой при помощи китайско-русского словаря приспосабливал «Цологоуза» под «Цзо-ло-гоу-цзы», «Чанцзуйза» под «Чан-цзун-цзы» и т. д. Потому что слогов «цо» и «за» в китайском языке просто-напросто не существует, и он подгонял их под «цзо» и «цзы». Отсюда «длинные клювы», «долины с завядшей травой» и прочая тарабарщина.
В.К. Арсеньев был и остаётся тёмной личностью, хотя бы из его отношения к попадающимся на его пути явно некитайским названиям. Вот встретилась ему в бассейне р. Иман котловина под названием Картун «в 6 км длиной и 3 км шириной». Название чисто русское. Открываем словарь Вл. Даля: «КАРАж. казнь, наказание, строгое взыскание»; «ТУНЕ нар. тунно сиб. (! — О.Г.) втуне, даром, безплатно, без пользы; тщётно, дарово, напрасно, попусту; без вины, без причины». То есть в этой котловине кто-то когда-то был «невинно казнён». До сих пор в разговорном русском слово «карачун» означает «конец», «смерть», «гибель» (Вл. Даль).
Но путешественнику по возвращении во Владивосток, как уже тоже замечено, не приходило в голову заглянуть в словарь Вл. Даля. Он пишет: «Слово «картун» (вероятно «гао-ли-тунь») означает «корейский посёлок».
Не вдохновил Арсеньева на поиски русских корней в приморских топонимах даже такой эпизод: «Незадолго до сумерек мы добрались до участка, носящего странное название Паровози. Откуда произошло это название, так я и не мог добиться»[39]. Как откуда? От слова «паровоз»! Он, наверное, был бы рад переиначить и это слово на китайский лад, но никак не получилось!
В этой книге мы поясним, откуда в дремучем Уссурийском крае появился этот топоним, а пока замечу, что, не умаляя заслуг В.К. Арсеньева, пора всё-таки разобраться в побудительных мотивах этого человека, заложившего под Приморье топонимическую мину замедленного действия.
Первые карты Приморья и Приамурья и до революции 1917 г., и в советские времена создавались, естественно, при активном участии В.К. Арсеньева и по состоянию на 1969 г. содержали в себе:
1) топонимы, зафиксированные В.К. Арсеньевым со слов китайских бродяг;