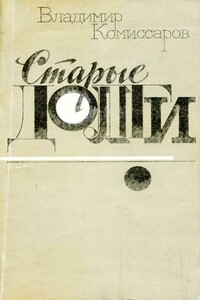Том 2. Машины и волки. Повести. Рассказы | страница 23
Утро пришло тогда семейной постелью, ледники света были ярки, и заблестели в красном солнце черт и черствые корки книг. И тогда необходимо было взглянуть и увидеть — глазами: увидеть!.. Как каждому, человеку дано право — жить и видеть по-своему, и по-своему, до гроба, любить. — Этот, возникший, потому что ничего не нужно, говорил о том, что коровы («коровы? коровы? — ах, да, — млекопитающиеся, кажется, четвероногие?..») — что коровы стоят столькото, только вон ту полку книг, где Леопарди, и будет свое молоко («ах, да, — коровы дают молоко!..»), — надо соль привозить, а не хлеб, — десять пудов, — на соль можно все получить!.. Этот оказался не тот, что вырос из книг и врос в книги, — и не те, что, пол мира зазастив железкой, Россией командовали влево. — Десять пудов соли — и будет и масло, и сало, и свое молоко. — «С голода мы не умрем, я не допущу, чтобы ты голодала!..» Этого черта продать (ну его, страшно от него ночью!), эти вот книги продать, — это оставим себе, — «там остался от вашего (когда о муже, тогда: вашего) — от вашего мужа пиджак, можно его мне?..» — «Я пойду сейчас на Сухаревку!..» — «На углу мальчишка продает конину, — можно обменять?..» — —
Глаз Милицы он не увидел — не увидал никогда. А Милице стало понятно, что остались только глаза, — тело отдано за тепло, — тело — тоже как вещь, которую беречь не стоит: ничего нет, ничего не надо, все равно… И только одно, всей оставшейся силой, всеми памятями, всеми глазами (что ледником сохранились от прежних времен, от прежних эпох, как мамонты в полярностях подлинных):
— «только книги оставьте, память оставьте, — оставьте глаза!»
И надо было, необходимо было, чтоб сплошная была полярность, чтоб все замерзло: и так и было, и веснами и в июле был полярный декабрь… Пусть последнее останется — глаза; тело — это еще не все, тело должно есть, хотя б ржаную кашу. А этот человек был предан, — этот человек любил и делал так, как понимал, и он таскал домой — и маслице, и кашку, и конинку — хотя корову так и не купил, оставив корову как «венец мечтанья».
…Юрий Росчиславский пришел весной, хотя это был сентябрь. Он пришел в девятьсот двадцать втором году, когда революция уходила в легенды. Маленькие трагедии — тому, кто трагедийствует — бывают иной раз больше мира: и всегда особенно страшны — пред лицом жизни и трагедии в смерть — трагедии те, где мелочь, бессилье, безденежье, комнаты, вещи — сильней человека. — В Москве не все уже дома можно было оттопить после ледников, переулки стояли, чтоб вымирать, — и тогда декретами стали все собираться в дома, где зимами можно было, уделив каждому, кто трудится, шестнадцать квадратных аршин, топиться на этих аршинах: — шестнадцать квадратных аршин российской разрухи много внесли достоевщины, когда в комнате было дважды-шестнадцать квадратных аршин, когда муж расходился с женой и им некуда было выехать, и они оставались вместе, а муж женился на новой жене, и втроем они жили на соседских шестнадцати квадратных аршинах… — Тот, безыменный, с коровьим венцом, отдал, конечно, свои шестнадцать аршин в копилку комнаты с книгами. — Юрий Росчиславский пришел, чтоб увидеть глаза Милицы, чтобы глазами, как гротом, спуститься в солнечный холод Леопарди и чтоб разбирать почерк Федора Достоевского на книжке «Времени», подаренной Некрасову, — чтоб спуститься в холодок таких слов и мыслей — там за этими днями, ибо мир не только этими днями закутан. Юрий Росчиславский пришел весной, хотя это был сентябрь: и Милица встретила его тем «бабьим летом» любви, когда первая паутинка морщинок у глаз греет солнцем, любовью более благостной, обреченной и прекрасной, чем солнечный холод Леопарди. — Каждый щенок прав жить и кусаться (когда ему больно) по-своему, — и за человеческую нежность, благодарность и внимательность: очень жестоко надо расплачиваться человеку! — тот, мечтавший спастись коровой, начал кусаться по-своему, — и в какую-то больницу его отвезли потому, что он выпил стакан нашатырного спирта; но од остался жив, и его привезли на шестнадцать его квадратных аршин, — и с шестнадцати этих аршин он уйти никуда не захотел. В любовь, благостную, как первые паутинки, как холодок бабьего лета, в последнюю и единственную, как последняя любовь — полетели с шестнадцати квадратных аршин: