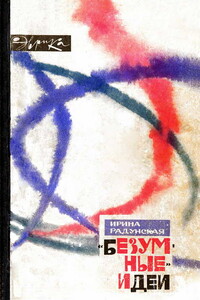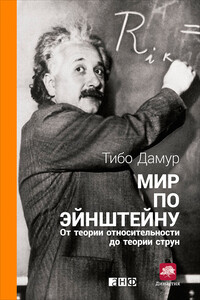Кванты и музы | страница 24
Порванные нити старых и новых теорий сближались…
Но для полной стыковки прежней, классической физики и новой время ещё не наступило.
Де Бройль продолжал упорствовать в своём мнении, склоняясь к концепции частиц, считая их волновые свойства в существенной мере формальными, а их появление в теории оправданным только для предсказания статистических свойств, наблюдаемых в опытах, где участвует много частиц.
Шредингер придерживался радикальной точки зрения, заключающейся в том, что частицы сохраняются в науке лишь в силу привычки, в то время как реальными являются волны света и волны на воде, связанные с частицами.
Де Бройль пытался построить компромиссную теорию, в которой частицы выступают как некоторые особенности, «узлы» в волне, но не смог справиться с математическими трудностями на пути описания этой идеи уравнениями. Без уравнений теория мертва. Она не может быть проверена опытом, и де Бройль отложил её до лучших времён.
Однако было в этой точке зрения нечто столь серьёзное, что вызывало симпатию даже Эйнштейна, скептически настроенного по отношению ко многим формальным идеям квантовой физики. Размышляя о механизме вкрапления материи в электромагнитное поле, Эйнштейн писал: «Вещество — там, где концентрация энергии велика, поле — там, где концентрация энергии мала. То, что действует на наши органы чувств в виде вещества, есть на деле огромная концентрация энергии в сравнительно малом пространстве. Мы могли бы рассматривать вещество как такие области в пространстве, где поле чрезвычайно сильно. Таким путём можно было бы создать основы новой философии».
Но в этой новой философии Эйнштейн видел всё-таки прежний фундамент: наглядное представление о предметах спора. Молодые творцы квантовой физики его не поддер живали. Гейзенберг, например, ни о каком компромиссе с прежними физическими воззрениями не помышлял. Он утверждал принципиальную невозможность объективного познания всех свойств частиц одновременно.
Он говорил, что, производя над квантовой системой измерения, чтобы описать исходные данные опыта, мы обязательно вносим в систему возмущения. Такие возмущения не могут быть учтены или вычислены. Поэтому состояние и последующие изменения системы оказываются в существенной мере неопределёнными. В результате, теория не может точно предвычислить результаты опыта. Предсказания теории могут иметь только статистический — вероятностный — характер.
Гейзенберг сформулировал свою идею в виде принципа неопределённости. В простейшем виде его суть состоит в том, что принципиально невозможно совершенно точно определить все характеристики квантовой частицы одновременно. Например, нельзя одновременно точно определить положение и скорость электрона, а значит, невозможно определить точную траекторию его движения.