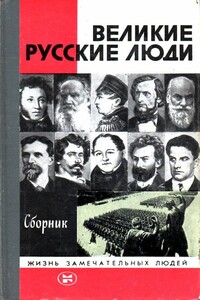Земля в цвету | страница 14
И если откинуть все это и говорить только про те растения, какие человек пересоздал, какие кормят его, дают ему одежду и сырье для промышленности, то такие будут исчисляться едва сотнями видов.
Один известный ботаник прошлого века (Декандоль) считал, что «набор» основных сельскохозяйственных растений — всего 44 вида — установился семь-восемь тысяч лет назад. А в следующие пять или шесть тысяч лет этот набор мало изменялся. Лишь за последние две тысячи лет человечество принялось расширять и умножать его.
Считают, что сейчас на земле 327 самых главных возделываемых (и пересозданных человеком) видов растений. У 269 из них — родина Старый Свет; у 58 — Новый Свет.[3]
Вот из этого «ядра» извлек человек необозримый, бесконечно многообразный мир — мир своих зеленых слуг. Было несколько тощих, мелкоколосных диких пшениц, а сейчас на полях земного шара созревает полторы тысячи пшеничных сортов!
Что же касается «прирученных» человеком видов растений, то в одной нашей стране возделывается их не менее двухсот. Ни в какой другой стране не возделывают больше.
СЛУГИ
Нам стоит ближе познакомиться с преданными зелеными слугами человека. Они заслуживают этого.
Первым, без всякого спора, надо назвать семейство злаков. Самый важный член этой семьи — пшеница. Некогда человек посеял ее возле своего жилья — раньше почти всех других растений; и сейчас больше всего в мире человек собирает тоже пшеничного зерна: до 150–160 миллионов тонн ежегодно.
Чуть отстает рис. Предки наши называли рис сарацинским пшеном; так он назван и в «Детстве» Льва Толстого. Главные сборы риса — в Азии. Там во многих странах для сотен миллионов людей он играет ту же роль, что хлебные злаки у нас.
И почти наравне с рисом идет кукуруза — древнейшая культура Американского материка. В Мексике и Соединенных Штатах и теперь кукурузу сеют больше, чем другие зерновые.
После этих трех злаков надо упомянуть овес. Но ему уже далеко до них. Его сборы в два-три раза меньше. Да и начал он служить человеку гораздо позднее. Римляне и греки считали его сорняком. Ученик Аристотеля Теофраст, которого называют «отцом ботаники», не находил в овсе ровно ничего доброго. Римлянин Плиний, написавший в первом веке нашей эры, почти через четыреста лет после Теофраста, 37 книг «Естественной истории», воображал, что овес и не злак вовсе, а ячменная болезнь: заболевший ячмень вырождается в овес. Для овса подбирали странные, пренебрежительные имена, напоминающие о козлах, овцах и даже козлиной вони. Наше «овес» тоже сходно с римским «овис», что значит «овца». Именами этими хотели сказать, что овес только и годен на козлиную и овечью пищу.