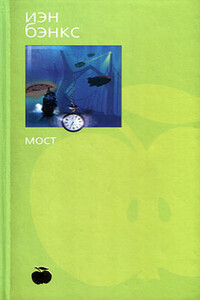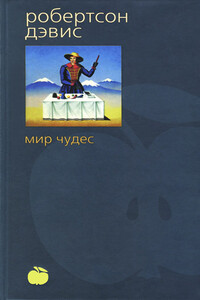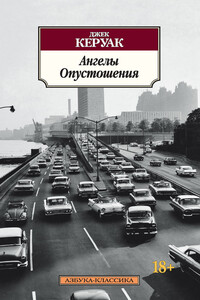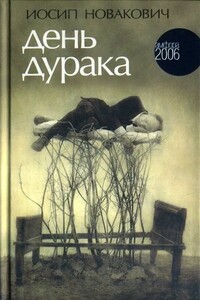Бродяги Дхармы | страница 92
День выпал сумасшедший, хотя начался довольно здраво — в церкви Марии Гвадалупы, потом я неторопливо погулял по Индейским Рынкам, отдохнул на скамеечке в парке среди по-детски веселых мексиканцев, но потом начались бары, легкий перебор с питьем, я орал пожилым усатым пеонам:
— Todas las granas de arena del desierto de Chihuahua son vacuidad![29] — и, наконец, столкнулся с толпой каких-то злостных мексиканских апачей, которые захватили меня к себе на хату, где камни сочились влагой, наприглашали туда своих друзей, и я вторчал там от свечей — там была лишь куча смутных голов, пламя свечей и дым. Мне, на самом деле, все это уже осточертело, я вспомнил свое ущелье с совершенным белым песочком, то место, где я буду сегодня спать, и стал прощаться. Но они не хотели меня отпускать. Один стащил что-то из моего мешка с покупками, но мне было все равно. Другой пацан-мексиканец оказался голубым и влюбился в меня: он хотел ехать со мною в Калифорнию. В Хуаресе уже настала ночь; все ночные клубы выли, себя не помня. Мы заскочили глотнуть пива в один: везде валялись негры-солдаты с сеньоритами на коленях, просто безумный бар, в музыкальном автомате — сплошной рок-н-ролл, регулярный рай, в общем. Мексиканский пацан хотел, чтобы я пошел с ним по переулкам, и мы бы там с ним «с-сст», а я бы сказал американским парням, что знаю, где тут есть девчонки:
— А я их приведу к себе в комнату, с-сст — и нет никаких девчонок! — предлагал он. Мне удалось стряхнуть его только у пограничного шлагбаума. Мы помахали друг другу на прощанье. Хуарес все-таки — злой город, а меня ждала моя добродетельная пустыня.
Я нетерпеливо пересек границу, прошел по Эль-Пасо к станции, забрал мешок, подавил тяжкий вздох и отправился три мили по рельсам прямиком к моей сухой балке, которую теперь легко опознал при лунном свете, потом наверх, ноги мои одиноко и мягко стучали о землю, как сапоги у Джафи, и я понял, что действительно научился у него отгонять пороки мира и города и находить свою подлинную чистую душу — коль скоро за плечами у меня нормальный рюкзак. Я вернулся к себе на стоянку, расстелил спальник и возблагодарил Господа за все, что Он давал мне. Теперь воспоминание о целом долгом и злом дне, о марихуане с мексиканцами в шляпах набекрень в затхлой комнатенке при свечах было как сон, как плохой сон, как один из моих снов на соломенной подстилке у Ручья Будды в Северной Каролине. Я медитировал и молился. На свете просто не существует такого ночного сна, что сравнился бы со сном в пустыне зимней ночью — при условии, что тебе хорошо и тепло в спальнике на гагачьем пуху. Тишина настолько интенсивна, что слышишь, как в ушах ревет твоя собственная кровь — но намного громче этого тот таинственный рев, который я всегда определяю как звучание алмаза мудрости, таинственный рев самой тишины — величайшее «шшшш», напоминающее о том, что ты, казалось, давно забыл за напрягом дней, промелькнувших с самого твоего рождения. Как бы мне хотелось попытаться объяснить это тем, кого я любил: моей маме, Джафи, — но просто не существовало таких слов, чтобы описать это ничто и эту чистоту. Есть ли какое-то четкое и определенное учение, которое можно дать всем живым существам? — такой вопрос, вероятно, задавали жуколобому снежному Дипанкаре, и ответом его было ревущее молчание алмаза.