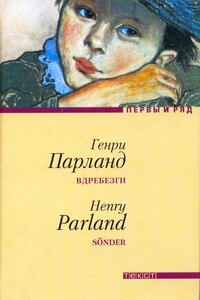Отныне и вовек | страница 8
Как только Кардифф ступил на веранду, все кресла-качалки разом замерли, все лица, сверкая улыбками, повернулись к нему, и множество рук взметнулось в молчаливом приветствии. Он кивнул, и белые летние кресла опять закачались под шелест тихой беседы.
Разглядывая это собрание элегантных людей, Кардифф думал: «Странно — так много мужчин средь бела дня просиживает без дела. Непривычное зрелище».
В сумраке, за дверным проемом, забранным защитной сеткой, раздался звон крохотного хрустального колокольчика.
— Суп готов, — объявил женский голос.
В считанные секунды плетеные кресла опустели, и отдыхающие гуськом устремились в дом, не прерывая беседы.
Он хотел было последовать за ними, но помедлил и обернулся.
— Что это? — прошептал он.
Позади стоял Элиас Калпеппер, бережно опустивший саквояж на пол, к ногам владельца.
— Эти звуки, — продолжал Кардифф. — Где-то…
Элиас Калпеппер тихо рассмеялся:
— Да это же городской оркестр — у него выступление в четверг вечером. Репетирует сокращенную версию «Тоски»: Тоска бросается вниз с башни и через две минуты приземляется.
— «Тоска», — повторил Кардифф и прислушался к далеким звукам духовых инструментов, — «Где-то…»
— Заходи, — сказал Калпеппер, придерживая для Джеймса Кардиффа дверь с сеткой.
Глава 7
В сумраке холла Кардиффу показалось, будто он вошел в прохладную летнюю кухню, где пахнет сливками, что хранятся в больших флягах, спрятанных подальше от солнца, где ледники сочатся тайной влагой, где на кухонных столах лежат свежевыпеченные хлебцы, а на подоконниках остывают пироги.
Кардифф сделал еще шаг и вдруг понял: в здешних краях он будет спать по девять часов кряду и вскакивать, как в детстве, с восходом солнца, ликуя оттого, что жизнь не кончается, что мир по утрам рождается вновь, что в груди бьется сердце, а в запястьях стучит пульс.
Тут он услышал чей-то смех. Это смеялся он сам, ошеломленный своей неизъяснимой радостью.
Откуда-то сверху донеслись звуки шагов. Кардифф поднял взгляд.
По ступеням спускалась — но при виде его замерла — самая прекрасная женщина на всем белом свете.
Где-то, когда-то, от кого-то он слышал: закрепи изображение, пока не поздно. Так говорили первые фотоаппараты, которые ловили свет и переносили озарение в камеру-обскуру, чтобы реактивы в фаянсовых плошках могли вызвать пленных призраков. Лица, пойманные в полдень, проявлялись в кислотном растворе: глаза, губы, а вслед за тем и таинственная плоть — сама красота, или надменность, или детская резвость, принужденная к неподвижности. В темноте эти фантомы трепетали под химической рябью, пока ритуальные жесты не извлекали их на поверхность, преображая время в вечность, которую можно брать в руки когда пожелаешь — даже после того, как теплая плоть исчезнет.