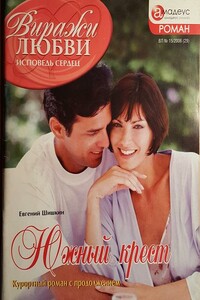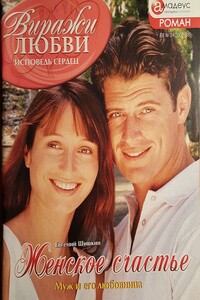Правда и блаженство | страница 73
Сейчас, в эту ночь, когда спать невмоготу, он чувствовал себя словно Колюшка. Преданным, брошенным и одиноким, с горчицей на губах. Со свежим синяком под глазом. И пожаловаться некому, а уж наябедничать и вовсе позорно — и немыслимо.
— Надо было мне с ним драться, — вдруг прошептал Пашка, он, конечно, тоже не спал и слышал вздохи брата. — Пусть бы он меня избил. Пусть бы убил! Только бы не так…
— Ты бы не смог с ним драться, — в ответ прошептал Лешка.
— Почему не смог? Не такой уж он здоровый…
— Он зверистый. В нем жалости нету… Чтоб с ним драться, одной мускулатуры мало. Плохо, что Леньку Жмыха посадили. Он бы его укротил. Надо чего-то другое выдумывать…
— Я в самбо запишусь, — прошептал Пашка.
Они помолчали.
Пашка лежал, думал, горько дивился. Как здорово начинался ушедший день! Летний цветистый день. Он дышал свежестью, искрился зелеными блестящими листьями, слепил солнцем и белизной огромных облаков. К этим облакам взмыли от голубятни белые птицы. И они — Пашка, Лешка и Костя — смотрели на этих голубей, любовались их высоким полетом.
Они ходили на Вятку, чтобы увидеть первый белокрылый «Метеор», судно на подводных крыльях, которое прибыло в местный порт. Судно словно летело над водой, гордо задрав нос… Пашка неспроста приглядывался к «Метеору», собирался покататься на нем с Танькой Востриковой.
А потом они возвращались от реки обратно и тоже искали в небе голубей, — белых проклятых голубей! Неужели Мамай может кого-то полюбить и сюсюкать с птичками? Ему бы волкодавов стаю… И мир, белый и яркий, как гребень волны от летящего «Метеора», сразу померк. Все почернело вокруг от страха, от звенящего, заполонившего всё: и слух, и зрение, и мысли, и чувства — страха. А ведь мир-то внешний не изменился. И солнце, и облака, и пенистая волна от судна — всё те же… Пашка встрепенулся, испуганно оторвал голову от подушки. Слава богу, Таньки с ними не было!
— На мизинце у него, — зашептал Пашка (даже произносить кличку не хватало духу), — крест выколот. Он чего, в бога верит?
— Не знаю, — ответил Лешка. — У зеков свои законы.
— Он обозвал нас… Слово какое-то неизвестное.
«Щень!» — это, производное от «щенка» ругательство было гаже и унизительнее, чем все остальные, известные…
— Леш, — позвал Пашка. — Ты извини меня, что не заступился. Я потом отомщу. — Лешка услышал в голосе брата надлом, видно, в горле запершило от слез. — Ты младший. Мне надо было с ним драться.
Валентина Семеновна не спала, слышала, что сыновья шепчутся в потемках, догадывалась: что-то стряслось — младший опять с фонарем под глазом, а старший — туча тучей. Но в душу к сынам лезть не лезла. Во всей правде они не раскроются, так нечего и ворошить. Василий Филиппович тоже отцова рвения до сынов не являл: «Дело молодое, само перемелется, нечего соль сыпать».