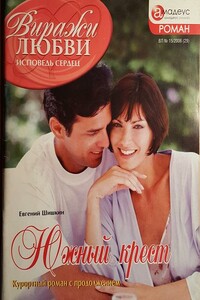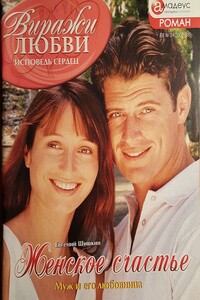Правда и блаженство | страница 71
— Закурить давай! — бросил ему Ленька для затравки.
Крепыш насторожился, будто чего-то не понял. Негромко, предупредительно сказал:
— Ты чего грубишь? Я Порция.
— Чё? — изумился Ленька. — Кто ты?
— Перчатки, говорю, у тебя клёвые, — играл какую-то игру незнакомец. — Дай посмотреть.
— Я тебе дам понюхать! — Ленька Жмых хотел было снизу вмазать крепышу в челюсть. Но не успел.
Крепыш головой боднул его в лицо, так что розовые круги поплыли в глазах Леньки-боксера. Себя он ощутил уже в кустах.
— Ты чё, козел! Я тебе сейчас полпорции сделаю! — Ленька зубами распустил шнурки, сбросил перчатки и со своей финкой, с которой никогда не расставался, вышел к головастому незнакомцу.
Ножевых ранений на теле Порции оказалось больше дюжины. Хоронили Порцию не шпана, не мелкие хулиганы — настоящие вятские воры. Порция был вор, — другая квалификация, другой авторитет в блатном мире. В их среде клички давались не по фамилиям. Сотоварищи поклялись отомстить за Порцию отвязному фраеру, который кинулся на него с финкой.
Несколько дней Ленька Жмых не дотянул до отправки в Советскую армию. А на зоне, после суда и приговора вскрыл себе вены. Шел слух, что ему посодействовали.
Мир юношеский — будто слоеный пирог. Сверху сладко искрится сахарная пудра, а в глубине, между сдобными коржами, может быть самая горькая горечь горчицы. И, верно, нет на земле отрока, который не мечтал бы поскорее переметнуться с вилючей тропы юношества на взрослый, независимый путь.
…В середине лета в пустующей, заброшенной голубятне, что возвышалась над сараями у одного из мопровских домов, появились белые породистые голуби. Из тюрьмы вернулся, оттрубив два года на «малолетке» и добрав полгода на «взросляке», Анатолий Шмелев, по кличке Мамай, который сызмальства имел две страсти: голуби и грабеж. Кличку ему подсудобила собственная мать, не потому что пошибал он чем-то на дальнего родственника бурята, с узким разрезом глаз, — подсудобила, когда узнала, что он поколотил в школе сразу шестерых сверстников: «Какой ты у нас Мамай!»
Дом, в котором жили Шмелевы, стоял наособину — не на линии улицы, а в глубине. Построен он был относительно других домов много позже и не вписался в шеренгу. Шмелев-старший зашибал деньгу в приполярной воркутинской шахте, а жену с сыном переместил из шахтерской общаги в Вятск; приткнулся на землю деда, откусил у него часть огорода, выстроил дом с верандой, сараем и голубятней.
Свист Мамая над голубятней, которую далеко видать с улицы Мопра, звучал недолго — упекли голубятника; с местными парнями дружбы он спаять тоже не поспел. Но о нем знали, его помнили. Темная и дурная слава — самая яркая, липкая слава.