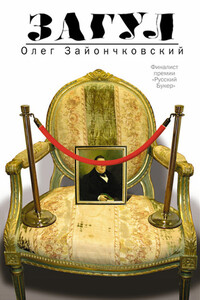Эмма | страница 56
Оме с удовольствием рассказывал о новой Франции, о царящей там терпимости и демократии, до которых нам здесь далеко, о событиях и духе 68-го года. С улыбкой воспроизвел он лозунги «Красного мая»: «Запрещается запрещать!», «Будьте реалистами — требуйте невозможного! (Че Гевара)», «Секс — это прекрасно! (Мао Цзэ-дун)», «Воображение у власти!», «Всё — и немедленно!», «Забудь всё, чему тебя учили — начни мечтать!», «Реформизм — это современный мазохизм», «Распахните окна ваших сердец!», «Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства!», «Границы — это репрессии», «Освобождение человека должно быть тотальным, либо его не будет совсем», «Нет экзаменам!», «Оргазм — здесь и сейчас!», «Университеты — студентам, заводы — рабочим, радио — журналистам, власть — всем!» Что ж, обилие тире всегда было мне по душе. Оме сообщал нам также и сведения, касающиеся «текущего момента»: он информировал нас о реформе еврокоммунизма, о его сближении с социалистами и другими общественными движениями — феминистским, экологическим, антирасистским и сексуальных меньшинств, о том, как полнятся французские улицы новыми людьми с разными оттенками кожи. Он сравнил такого рода неизбежный прогресс с привыканием парижан к Эйфелевой башне и мешанине цветных труб центра Помпиду. Я на одной из первых встреч с ним, чтобы поддержать разговор и хоть как-то обозначить свое присутствие, задал вопрос, прибегнув, ей-богу, к самой скромной и вежливой из доступных мне интонаций, не приведет ли смешение культур к трениям, а то и к взрыву, и был поражен той степенью брезгливого недоумения, с которой взглянул на меня неполный профессор всеобщей истории. Он был грузный и высокий мужчина, с таким неловко вступать в драку, да я никогда и не дрался даже в детстве. Но вот посмотреть, как затряслись бы его пухлые щечки от пары… Нет, нет, что за нелепые фантазии! Не помню, что именно он ответил, но сказал что-то короткое, пренебрежительное и отвернулся к Шарлю, с которым вел беседу до этого. Не думаю, что в моем внешнем виде или манере говорить есть что-то, вызывающее желание тут же от меня отделаться. Такого почти никогда не случалось со мной. Нет, вру, случалось. Два эпизода. Первый — мне было лет десять, я пришел к сверстнику-соседу и нашел его играющим с солдатом в отпуске. Второй — я подошел к толпе таких же, как я, студентов, беседующих с туристом, как я понял потом, потомком русских белоэмигрантов. В обоих случаях моя попытка присоединиться вызвала взгляды, в смысле которых трудно было ошибиться: «изыди», — говорили мне они. У меня нет доказательств, но интуиция подсказывала мне, что дело тут было не в личной, необъяснимой антипатии именно ко мне, а в некоем групповом обобщающем чувстве, позволю себе это предположение — в ксенофобии, естественно-биологической в случае солдата и идеолого-исторической в случае с туристом белоэмигрантом. Я знаю — есть немало людей, говорящих: «Это не я дурно пахну, это запах поселившихся и размножившихся на мне бактерий и продуктов их жизнедеятельности, которые я, может быть, вовремя не смыл и не соскоблил», — или стряхивающих с себя подобные недоразумения, как утка влагу с перьев. Но со мной такого не происходит. Я, Vanellus spinosus, птичка аккуратная, настороженная, обидчивая. Мои перья защищены тонкой пленкой отчуждения.