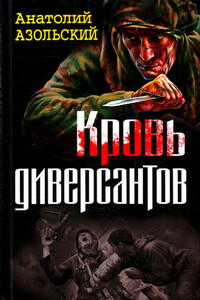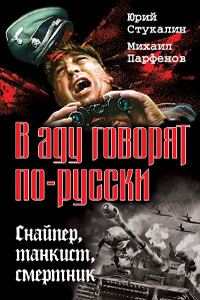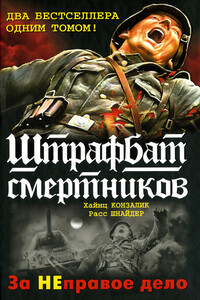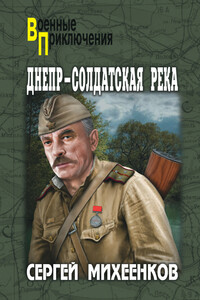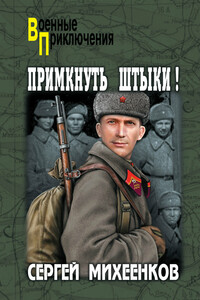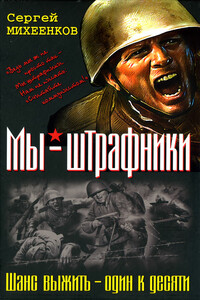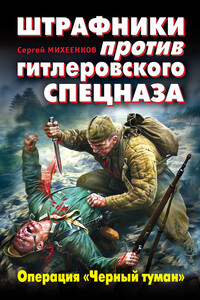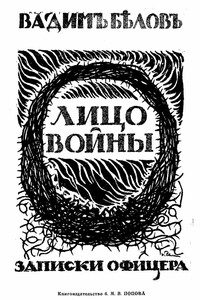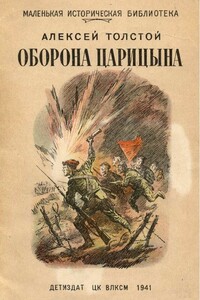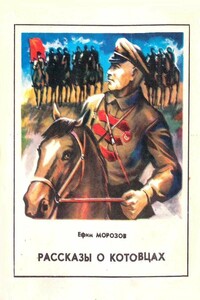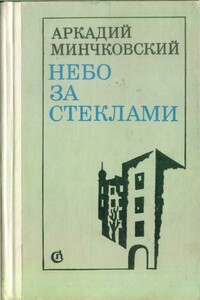Штрафная рота. Высота смертников | страница 116
Лучше молчать, поняла она и свою тоску. Лучше молчать. Тася тоже о своем думает. Анна Витальевна — о своем. А сойдутся вместе, сядут где-нибудь на бревнышке у воды или на широкой лавке у теплой печи и заведут старинную песню, в которой все-то друг дружке и выскажут, все-то выплачут. Глядишь, и легче на душе становится, вроде как светлее. Надежде больше места становится. А то вдруг Анна Витальевна начнет рассказывать о разных странах. И так здорово, с такими подробностями, что кажется, что сама она там побывала, а теперь им просто пересказывает то, что видела да слышала, да где своей ногой ступала. То вдруг с детьми заведет какую-нибудь веселую игру, так что в доме все кувырком. То вдруг притихнет и о чем-то задумается, и в глазах такая мука, что лучше в них и не глядеть.
Тася намного проще и понятнее. Душа у нее светлее. Когда печалится, все песни свои поет. На своем родном языке, на белорусском. Зинаида любила ее слушать. В тех песнях есть такие слова, что от них душа замирает и плакать хочется.
Анна Витальевна таких песен не знает. Тасины песни ее беспокоят.
Однажды она спросила Ивана Степаныча, нет ли где в доме географической карты? Старик нашел где-то на чердаке старый, еще дореволюционный атлас мира.
— Вот, Стенина какая-то книжка. Он в школу с ней ходил…
И она долго листала ее, водила пальцем, что-то думала, думала, думала… Атлас потом положила под подушку и время от времени доставала его и снова смотрела, и думала.
В тот год грибы пошли поздно, в октябре, после первого ночного захвата. Утром Зинаида пошла на озера, а стежка под ногами хрустит, и ледок возле камней, на которых лежали широкие плахи пральни — забереги. Она зачерпнула воды. Лед зазвенел печальным звоном, как будто она выронила стеклянную посудину и та легко разбилась на валунах, исчезла в прозрачной воде. Поймала в ведре тонкую ледышку, положила ее в рот. Та скоро растаяла, даже не остудив губ. Тут увидела монаха Нила. Тот шел краем берега с небольшой корзиной и, часто наклоняясь, что-то собирал в свое лукошко.
Вернувшись домой, она сказала старшему:
— Прокоша, сынок, сбегай-ка в Пенушки, посмотри, не пошли ль опенки. Везде смотри: и в траве, и на деревьях.
Пенушки — старые вырубки, лесная елань. Сосновые и березовые пни уже покрылись мохом. Лес там свели еще до Сидорят. Когда-то здесь, при старой власти и других, еще царских законах, обживались первые хуторяне. Удивительно, но усадьба не зарастала. Лес словно уступил это место солнцу и лугу. Летом на луг забредали коровы. Трава в елани росла буйная. Но покос был негодный из-за обилия пней. Похоже, сводя лес, сучья сжигали тут же, видимо, пытаясь заодно уничтожить и пни. Но только обуглили их, и они будто окаменели и уже не поддавались гниению. Торчали из земли там и тут серыми гранитными пирамидками. Вот и прозвали то место Пенушками.