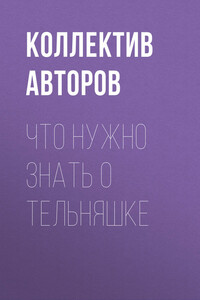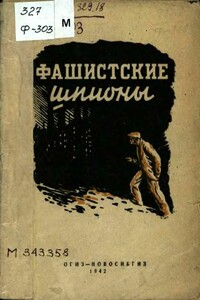«Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. | страница 10
Надо заметить, что провести социальную демаркацию оказалось сложным делом. Границы между работниками, принадлежащими к смежным видам деятельности или отличающимися только формально, служебным положением, были весьма условными. Нянечка в больнице — кто она? Служащая, как это было занесено в базу данных из анкеты арестованного, или рабочая по роду деятельности? В течение всей работы над проектом авторы соответствующих разделов обменивались данными.
После того, как был очерчен круг «прооперированных» — так в одном из рапортов по начальству назвали жертв кулацкой операции — и выделены в нем соответствующие секторы: рабочие, служащие, крестьяне, священнослужители, в авторской группе были распределены функции.
Общее научное руководство было возложено на О. Лейбовича, так же как и подготовка двух статей — общей по операции и по роли НКВД в ее реализации. Поиск, выявление и подготовка источников — на Г. Станковскую. Статистической обработкой данных занималась Н. Шушкова. Тема репрессий против рабочих была закреплена за Андреем Кабацковым; репрессий против крестьян — за Владиславом Шабалиным, против служащих — за Анной Кимерлинг; против священнослужителей — за Александром Казанковым; Анна Колдушко занималась изучением роли партийных организаций в проведении операции; советскими организациями (прокуратурой и заводскими отделами по найму и увольнению) — Александр Чащухин. Сергей Шевырин исследовал проведение операции в селе Кояново.
Предварительные результаты изысканий обсуждались в постоянно действующем семинаре, так что применительно к книге речь может идти, действительно, о коллективном творчестве. Общность подходов закалялась в непрерывных дискуссиях с Марком Юнге. Линия разногласий проходила по следующим пунктам.
Была ли кулацкая операция в Прикамье особой, специфической акцией, направленной на истребление социально вредных элементов в деревне и в городе, или только звеном в цепи террористических акций, задуманных и реализованных высшей властью? Если бы оказалась верной первая точка зрения, то среди репрессированных контингентов нельзя было бы обнаружить ни служащих, ни тем более партийных работников; если бы подтвердилась вторая, то мы бы нашли в ней сплетенные следователями социальные сети «амальгамы», охватывающие все общественные группировки тогдашнего советского общества.
Кто направлял «карающую руку советского народа» против потенциальных жертв? Председатели сельсоветов, колхозные бригадиры и начальники цехов, желающие избавиться раз и навсегда от нерадивых и ноющих работников, или эта рука действовала в автономном режиме? Главным пунктом разногласий стала интерпретация приобщенных к делам справок из сельсоветов. Сочиняли ли их под диктовку сотрудников НКВД против уже намеченных к изъятию людей или писали добровольно, более того, инициативно на местах, чтобы привлечь внимание органов к подозрительным гражданам?