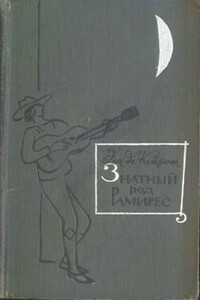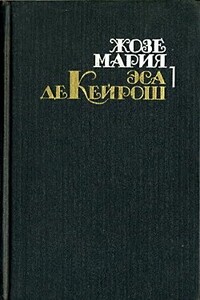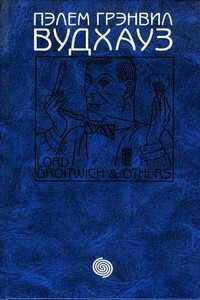Мандарин | страница 33
Тогда, поняв, что Лиссабон и сонное царство, в котором я вращался, способствуют развитию моих болезненных фантазий, я оставил столицу, решив отправиться в путешествие тихо, без помпы, с одним баулом и одним лакеем.
Согласно общепринятому маршруту, я посетил Париж, заезженную Швейцарию, Лондон и задумчивые озера Шотландии; я разбивал свою палатку под описанными в Евангелии стенами Иерусалима и проехал от Александрии до Фив через весь Египет, величественный и печальный, как галерея мавзолея. Я познал морскую болезнь на борту парохода, скуку — при осмотре руин, меланхолию от вида незнакомых мне толп народа, разочарование от парижских бульваров, и мои душевные страдания не унимались, а росли.
Теперь я не только испытывал горечь оттого, что пустил по миру уважаемое семейство, но и терзался угрызениями совести, что лишил китайское общество такой значительной личности, такого известного ученого, бывшего опорой порядка и поддержкой его институтов. Ведь невозможно же, лишив государство личности, ценность которой выражается в сто шесть тысяч конто, не нарушить его равновесия. Эта мысль все время сверлила мой мозг, и я всеми силами старался узнать, так ли плачевна для Древнего Китая утрата этого самого Ти Шинфу. Я просмотрел все газеты Гонконга и Шанхая, все ночи напролет читал истории путешествий, даже советовался со знатоками-миссионерами. И что же? Все статьи, книги и люди говорили мне о закате Срединной империи: провинции ее были разорены, города вымирали, население голодало, повсюду свирепствовали чума и мятежи, храмы не почитались, законы утрачивали силу. Словом, передо мной предстала картина крушения целого мира, похожего на выброшенный на берег корабль, который волны разносили в щепы!..
И все эти бедствия Китая я приписывал себе одному! Моя больная душа преувеличивала значение Ти Шинфу, сравнивала его с Цезарем или Моисеем — вершителями человеческих судеб, воплощавшими силу своих племен. А я убил его, и с его убийством исчезла жизнеспособность его родины! Его разносторонний ум мог бы легко спасти эту древнюю азиатскую монархию, а я прервал его творческую деятельность! Его богатство, без сомнения, пошло бы на восстановление мощи государственной казны, а я тратил его, угощая мессалин из пассажа Элльдер персиками в январе! Да, друзья мои, я познал всю тяжесть угрызений совести человека, разрушившего империю!
И вот, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжких мыслей, я вновь предался оргиям. Снял особняк в Париже на Елисейских полях и там творил нечто ужасное. Закатывал пиры наподобие Тримальхионовых и в часы безудержного разгула, когда гремел духовой оркестр и медь фанфар исторгала звуки канкана, а полуголые проститутки пели гнуснейшие куплеты и приглашенные сотрапезники — атеисты кабаков — богохульствовали, подняв фужеры с шампанским, я, как Гелиогабал, осатанев от ненависти ко всему мыслящему и совестливому, ползал на четвереньках и неистово по-ослиному ревел…