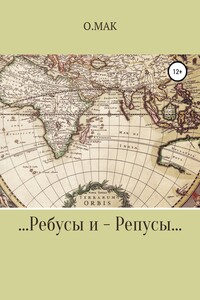Война на земле Египта | страница 39
Во имя Аллаха, — громко сказал омда и протянул руку к еде. Я увидел вещицу, похожую на вилы, которыми мы провеиваем пшеницу, только маленькую и сделанную из металла — а вилы, как известно, деревянные. Она, вроде, называется вилкой. Ножи и ложки я знаю, у меня у самого есть в доме нож еще со времен моей женитьбы. И деревянные ложки нам вырезал мастер когда я женился на матери Мысри, впридачу к сундуку и столику-таблийе. Я растерялся, не зная, чем же мне есть, вилкой или руками. Омда взял вилку и нож, отрезал кусок этого гуся (или индейки), а я все не смел протянуть руку, боясь, как бы омда не рассердился. Настроение у меня испортилось, я подумал: уж лучше бы они дали мне мою долю с собой, и я съел бы ее наедине без помощи всех этих предметов, ставших мне ненавистными, я даже поймал себя на желании выкинуть их в окно. Отложив вилку и нож, я взял ложку и стал есть то, что можно набрать ложкой: шурпу, рис, овощи, салат. У омды-то был богатый многолетний опыт застолий. А я давно уже отвык различать вкус еды. Он набивал рот мясом с блаженным выражением лица, словно занимался любимейшим своим делом. После ужина я стал прощаться. Омда дал мне два дня сроку на размышление. Телефонист напомнил, что Мысри я должен вводить в курс дела постепенно, не раскрывая сразу все карты. Я пообещал и вышел. Шагал я понуро, уставясь в землю, с трудом волоча ноги. Домой я не пошел, а отправился к амбарам омды. Думал о Мысри. Ведь именно от него узнал я о том, что делается в мире. Пока Мысри был ребенком, все помыслы мои были сосредоточены на куске хлеба, на том, чтобы Аллах не отнял его у меня. Прежде чем положить в рот кусок лепешки, я целовал ее с обеих сторон. По ночам, в долгой, тягучей темноте мне хотелось лишь одного — хоть немного поспать. Утром я шел сдавать винтовку и старался не попасться на глаза омде: еще заметит ненароком и пошлет работать на своем поле. Весь день я мучился — от голода, недосыпа и усталости. Жизнь — сплошное мучение. Я старался не думать о недавнем разговоре с омдой, но то и дело мысленно возвращался к нему. Соглашусь ли я, чтобы Мысри шел в армию вместо сына омды?
— Ни за что!
Эти слова сами сорвались с моих губ. Но тревога за сына не стала от этого меньше. Страх поселился в моей душе, едва я вышел из дома омды. Не надо, говорил я себе, ни о чем сейчас думать, иди домой, ляг, укройся старым, дырявым, как решето, одеялом и постарайся уснуть. Хорошо бы всхрапнуть, как все люди. По ночам, во время дежурств, я слышу людской храп. Люди ведь делятся на два сорта, — одни спят без задних ног, другие мучатся бессонницей. У богачей сон крепкий. Так мне кажется, когда я прохожу ночью мимо их домов. И все-таки я вечно боюсь, как бы шум моих шагов не разбудил их. Правда, моя обязанность охранять по ночам людей порядочных от сукиных детей, но будить их не следует. Выйдя на пенсию, я надеялся отоспаться, но не прошло и недели, как снова стал сторожем у омды. Тут мои мысли снова вернулись к Мысри, и я позабыл о сне. Скажу лишь напоследок: бессонница оставила заметные следы на моем лице. Глаза у меня всегда красные, даже издалека виден красноватый цвет белков. А ресницы почти все выпали. Нос — как водопроводный кран, из него вечно капает; не то, что наша колонка, из которой никому еще не удалось выдоить ни капли воды.