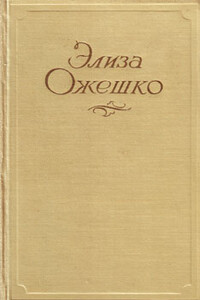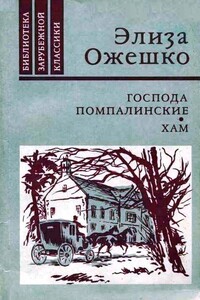Сильфида | страница 8
Сильно раздосадованная, Жиревичова легкой, грациозной походкой подошла к комоду, вынула из ящика тарелку с печеньем и конфетами и поставила перед гостем.
— Мне хочется угостить тебя хотя бы этим, Стась, — сказала она с чувством.
Станислав из вежливости взял печенье, а хозяйка дома принялась грызть своими все еще белыми зубками конфету и, стараясь отвлечь внимание гостя от продолжавшейся во дворе перебранки, рассеянно, наугад, сказала первое, что пришло ей в голову:
— Ролицкий строит каменный дом.
— Почему бы ему не строить? Он из нас выкачал немало денег и сколотил недурное состояньице! Только такие, как он, могут теперь жить и властвовать.
— Но ведь он благородный и умный человек, — горячо вступилась вдова за своего соседа. — Игнатий всегда говорил, что Ролицкий честно нажил свое состояние…
— Может быть, и честно, я не стану спорить, вероятнее всего, так оно и есть; но нельзя отрицать и того, что деньги он выкачал у нас, из нашего помещичьего кармана. Посудите сами, тетушка, кто, как не мы, помещики, содержим и обогащаем всех этих адвокатов, докторов и тому подобных выскочек? Не правда ли? Скажите, тетушка!
— Ну, конечно, это ясно! — убежденно ответила вдова, подчиняясь влиянию его слов.
— А потом люди еще удивляются, что мы разорены! Скажу вам откровенно, у меня хоть и есть еще имение и я, слава богу, в состоянии аккуратнейшим образом выплачивать долги, но мне и хозяйство и все дела так опротивели, что я с превеликой охотой согласился бы быть таким вот Ролицким…
— Стась! Что ты говоришь! — возмутилась Жиревичова. — Как ты можешь сравнивать себя с Ролицким! Ведь ты помещик… О, насколько это почетней, поэтичней… возвышенней…
— Конечно!.. Кто этого не понимает. Но сейчас все на свете вверх дном перевернулось, и куда ни сунется несчастный помещик, везде заботы, куда ни ступит, всюду огорчения…
У Стася, должно быть, на самом деле было много забот и огорчений, быть может и неудовлетворенных желаний, опасений, которые он испытывал инстинктивно, из чувства самосохранения. Лоб у него наморщился, лицо помрачнело, он нервно теребил усы. На глаза неожиданно навернулись слезы, он схватил руку Эммы и поднес к губам.
— Тетушка, — взволнованно сказал он, — перед вами я исповедуюсь, как перед ксендзом. Чем я виноват? Я привык жить хорошо, ни в чем себе не отказывать. Могу ли я сейчас, в мои молодые годы, засесть, словно отшельник, в деревне, есть борщ и довольствоваться обществом своих батраков? Такая скучища, что лучше уж сквозь землю провалиться! Случается, в город надо съездить, а там, хочешь не хочешь, всегда какие-нибудь непредвиденные расходы найдутся… то одно… то другое… Да и после отца, откровенно говоря, долги остались. Святой я, что ли, чтобы в такие трудные времена именье от долгов очистить. У молодости свои права… иногда что-нибудь лишнее себе позволишь… в конце концов все это осложняет жизнь… там урежь… здесь заплату положи… и вечно только думай о том, как из всей этой путаницы что-нибудь приятное для себя извлечь и перед людьми не осрамиться… Видите, тетушка, как я с вами откровенен! Я все высказал, а теперь утешьте меня!