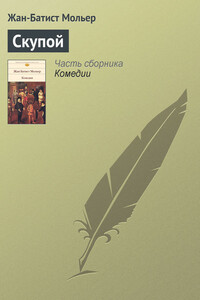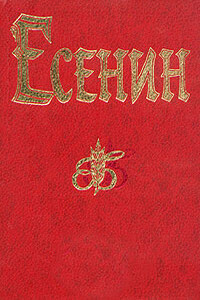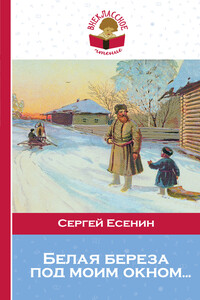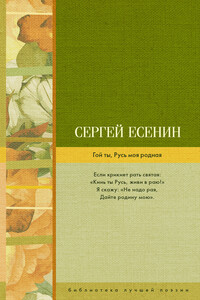Стихотворения. Поэмы | страница 4
Маяковский рассказывает о встрече с Есениным:
«Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.
Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:
— Это что же, для рекламы?
Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.
Что-то вроде:
— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…
…Уходя, я сказал ему на всякий случай:
— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!»[2]
Маяковский в желтой кофте и Есенин в рубашке, вышитой крестиком, — явления в чем-то схожие. В обоих случаях бутафория — пощечина господствующему вкусу.
Октябрьская революция была воспринята Есениным как стихийный «вихрь», сметающий прогнивший «старый мир». То, что было совершенно ясно Маяковскому и Демьяну Бедному, для Есенина оказалось чрезвычайно сложным и запутанным.
Социализм мыслился Есениным как «мужицкий рай», где «нет податей за пашни», где все живут вольготно и весело, отдыхают «блаженно», «мудро» и «хороводно». Рядом с памятником Марксу от русского пролетариата Есенин хочет видеть памятник корове, как остроумно заметил Маяковский. — «Не молоконосной корове… а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз»[3].
В поэме «Инония», нарочито витийственной, поэт «вещает»:
Торжественная, почти библейская фразеология («Время мое приспело… Тело, Христово тело») перемежается с явным просторечием. В эпически спокойную речь врывается «лязг кнута», и даже более залихватские метафоры, — совсем не в духе «священной» поэзии.
Есенин и сам понимал, что в религиозную символику с трудом укладываются современные события народной жизни.
В автобиографии «Нечто о себе» он писал: «Не будь революции, я, может быть, так бы и засох на никому не нужной религиозной символике, развернулся талантом не в ту сторону».
Однако увлечение Есенина библейскими образами и «священной» фразеологией нельзя считать только заблуждением, консерватизмом или просто данью моде. Обращение к церковным книгам и к народным духовным стихам было связано с творческими поисками Есенина, его экспериментаторством в поэтике — желанием выйти за пределы устоявшихся образов и сравнений, сделать стих более упругим и эмоционально взбудораженным. Ю. Н. Либединский недоумевал, читая стихотворение «Осень»: