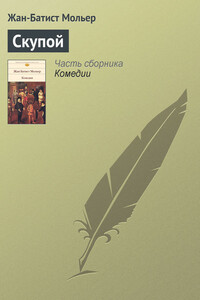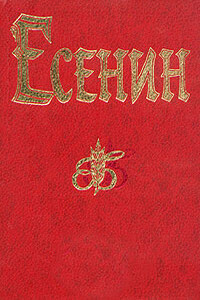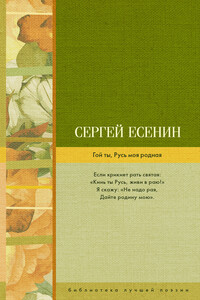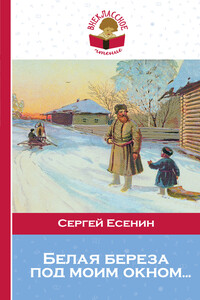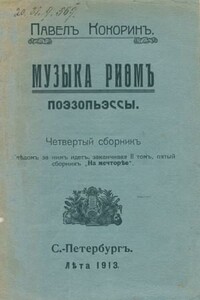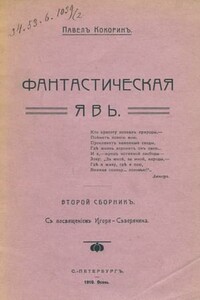Стихотворения. Поэмы | страница 13
Любовь ко «всякому зверью» не могла заслонить в поэзии Есенина деревенских мужиков и баб. Мы не только видим луг, сотканный из полевых цветов, залитый красками, но и слышим, как «шепчут грабли» и «свистят косы». И сам стих спешит за трудовым ритмом, торопится, чтобы уверенно выводить «травяные строчки»:
Поэт по-мужицки практичен, он видит в природе богатства, которые ждут человеческих рук.
Даже небесные светила поэт приглашает на землю. Сотни раз воспетая луна бросает свой отсвет на дремлющий крестьянский мир, на сельскую природу, одухотворяя ее, пробуждая, наполняя новыми красками. Месяц роняет «желтые поводья» или бросает «весла по озерам»; луна, как «коврига хлеба», надломилась над небесными сводами.
Схожий с жеребенком месяц, тоже рыжий, «запрягается» в сани.
В поэме «Пугачев» луна, «как желтый медведь, в мокрой траве ворочается». Даже этот вычурный образ имеет свою народно-поэтическую основу. Пугачев разъясняет происхождение столь неожиданной метафоры:
Для простого крестьянского мальчика луна всего лишь «коврига хлеба», для Пугачева, размышляющего о своем предназначении, о предстоящей борьбе, луна-медведь имеет магическое значение.
Происходит постоянное обновление поэтики, один и тот же образ (например, луна) обрастает множеством значений, приобретает все новые и новые художественные функции. Ступенчатое развитие образа — одна из особенностей поэтической системы Есенина. Другая особенность — умение поэта переселять своего лирического героя в природу, которая становится как бы эстетической собственностью самого поэта.
Под луной, теперь уже зловещей, проходят самые трудные, мучительные дни «Москвы кабацкой». Это сложный по своему художественному и идейному составу стихотворный цикл. «Кабацкие» стихи писали и до Есенина, на пороге кабака побывали Пушкин («Да пьяный топот трепака // Перед порогом кабака»), Лермонтов («Смотреть до полночи готов // На пляску с топаньем и свистом // Под говор пьяных мужиков»), Блок («Буду слушать голос Руси пьяной, // Отдыхать под крышей кабака»). Известный ученый-этнограф И. Г. Прыжов считал, что для русского интеллигента и крестьянина кабак в XIX веке был своеобразным клубом, куда заходили с большого горя. В кабаке начинались, по словам Прыжова, «всевозможные бунты и волнения с Разина и до 19 февраля 1861 года», и здесь же можно было увидеть самые «ужасные сцены» («дьявольское, темное, нечистое»