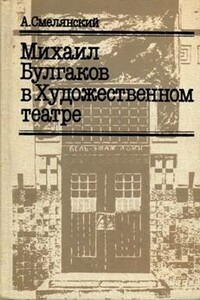Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 4
Сейчас в новой России в ходу либеральная идея, что соцреализм — это химера, которой никогда не было, так же как не было «советской литературы». Это несерьезно, конечно. Соцреализм надо изучать так же, как любой исторически сложившийся и исчерпавший себя стиль, который существовал у нас несколько десятилетий. Метод объявили наследником мировой культуры, была канонизирована традиция русского сценического реализма (врагом этой традиции оказался «формализм», подлежавший разгрому и уничтожению). Постепенно сформировались общие черты советского искусства, претендовавшего на создание параллельной реальности. Задача была сформулирована с жесткой определенностью идеологами партии, но затем получила шлифовку в совокупных усилиях самих творцов новых форм. Стенограмма Первого съезда советских писателей вводит в лабораторию коллективной работы, которая тогда воспринималась как вполне патетическая. Достаточно вспомнить, что на съезде от имени людей театра выступили такие первородные художники, как А.Таи- ров или Ю.Олеша, с готовностью принявшие на себя историческую миссию. Внедрение нового стиля потребовало организационных усилий. Через несколько лет после коллективизации в союз писательской общественности произошло стационирование советских театров. Вольная река актеров, перемещавшихся по России «из Вологды в Керчь», была перекрыта сотнями плотин. Актеры и театры осели на своих местах, окопались и приобрели высокий социальный статус, продиктованный задачами все той же идеологии. В городском пейзаже театры стали соседствовать с областным комитетом партии, КГБ или Домом партийно-политического просвещения. Даже топографически власть подчеркивала значение театра как одного из важнейших инструментов управления «паствой». В условиях театральной коллективизации насаждение нового стиля было уже делом техники.
В тридцатые годы черты нового стиля можно было обнаружить повсюду: в типологии героев и в голосах актеров, в декорациях и планировке важнейших мизансцен, развернутых по диагонали или фронтально в зависимости от того, где была расположена специальная ложа, в которой Он в любой момент мог появиться.
Кроме догматов нового метода была, конечно, еще и реальная практика искусства, существовавшего в СССР не как что-то подпольное, диссидентское, но как искусство публичное, ежедневное. «Приметы этого искусства,— по замечанию историка театра,— ясность и жизнеподобие, морализм, твердая дидактика, воля к простоте. Оттесняется дух трагической сатиры, уходят из театрального употребления фантастическое и ужасное как эстетические категории»