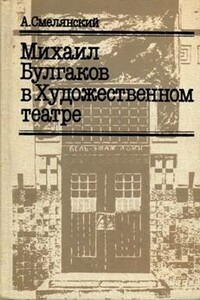Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 36
Эластичный во взаимоотношениях с внешним миром, внутри театра он был диктатором (как и Немирович-Дан- ченко). Его боготворили и боялись. Трепетали, когда его машина только приближалась к театральному подъезду. Получив закалку при «отце народов», он сохранил менталитет той эпохи в собственном «доме». Он любил власть и наслаждался искусством власти. Гортанный звук его голоса с приятным грузинским акцентом, большой перстень на пальце, крупная роговая оправа очков на хорошо вылепленном лице, имевшем сходство с какой-то хищной птицей, язвительная, порой блестящая ирония, шарм крупного дипломата — все выдавало в нем хозяина жизни, знающего секрет успеха. Притом что он был болезненно чувствителен к чужому слову и оценке, пытаясь по-своему контролировать театральную прессу. За глаза вся театральная страна величала его Гогой, что придавало фигуре режиссера домашность и вместе с тем апокрифическую значительность. «Гога» невольно вызывал в памяти образ «крестного отца» — в смысле неофициальной власти в театральном мире. И с этой неофициальной властью считалась власть официальная, которая не раз пыталась метить его своими ядовитыми когтями. Метила, но достать не смогла. В течение тридцати лет Георгий Товстоногов держал образцовый советский «театр-храм» в колыбели революции Ленинграде, самом неблагоприятном для искусства городе Советского Союза.
Его спектакли в смысле социального анамнеза были точны, как судебный протокол. С особенным блеском аналитический дар режиссера расцветал в пьесах широко известных, даже захватанных. Его слава началась с «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского (1955). Автор пьесы был одиознейшим экспонатом даже в нашем писательском гербарии. Пулеметчик и комиссар Балтфлота в годы гражданской войны, сталинский литературный опричник позднее, он создал жанр «оптимистической трагедии», узаконенный в начале 30-х годов знаменитым спектаклем Александра Таирова. Товстоногов взял эту пьесу и наполнил совершенно иным содержанием. Он сместил акценты, выдвинув на первый план не женщину-комиссара, а фигуру Вожака, в котором выразил всю свою выношенную ненависть к режиму. Он опроверг изысканную геометрию таи- ровских мизансцен. Таировской эстетизации революции — «Небо. Земля. Человек» — он противопоставил кровавую реальность этой земли, равнодушное небо и гнусное политиканство людей, втянувших народ в мясорубку ради удовлетворения жажды власти.