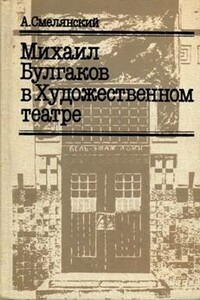Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 34
Истина, как обычно, таилась где-то в низовых шутливых жанрах. Через год после премьеры «Большевиков» актер «Современника» Михаил Козаков (он играл в спектакле Стеклова) сочинит поздравительную эпиграмму своим то- варищам-актерам: «Вливаясь в хор всеобщих од, подняв на сцене мощный ор, сегодня, братцы, ровно год, как голосуем за террор».
Год, прошедший со дня премьеры «Большевиков», был на самом деле роковым. В августе 68-го завершилась «пражская весна», рухнул миф о «социализме с человеческим лицом». Готовился разгон редакции журнала «Новый мир», Александр Солженицын написал свое обращение к Съезду писателей. Пенсионер Никита Хрущев сажал помидоры в своем огороде, иногда приходил на «Голого короля» и там сокрушался, что вот, мол, не успел до конца «разоблачить Сталина». Тень недавно захороненного вождя, вынесенного ночью из Мавзолея, вновь пошла гулять по России. Из-под «Современника» уходила историческая почва. Летом 1970 года Ефремов выпустил свой последний спектакль в этом театре — чеховскую «Чайку». Пьеса, которая когда-то начала Художественный театр, на этот раз закрыла одну из его лучших студий.
Все внутритеатральные отношения, весь груз накопившихся взаимных обид, разочарований и неприязни был выплеснут в чеховский текст. Ефремов пытался превратить Чехова в памфлетиста. Интеллигентные герои Чехова ему тогда очень не нравились. Ему не нравилось, что они так много болтают и ничего не делают. Он внес в «Чайку» идейный разброд конца 60-х годов. Люди перестали слушать и слышать, они только выясняли отношения, пили, склочничали и ненавидели друг друга.
«Чайка» обозначила внутренний крах «товарищества на вере». Он совпал с крахом идеологии советского «шестидесятничества». Идея «очищения революции» исчерпала себя. В сентябре 1970 года Екатерина Фурцева представит Олега Ефремова труппе Художественного театра. Государство поручало ему руководить головным театральным предприятием страны. Актерам «Современника» Ефремов предложил в полном составе влиться в МХАТ. Двое суток изнуряющей бесплодной полемики ни к чему не привели. Большинство «современников» отказалось идти в академию. Горсткой соли, полагали они, не посолить болота.
Наша родословная
Визитная карточка Георгия Товстоногова уже предъявлена — спектакль «Идиот». Теперь пришло время поговорить подробнее об этой ключевой фигуре послесталинско- го театра.
Сам режиссер написал несколько книг, немало написано и о нем, тем не менее Товстоногов остается одним из самых загадочных персонажей советской сцены. Он ускользает от простых определений. Конечно, его миссия заключалась в том, чтобы соединить разорванные части нашей культуры — довоенной и послевоенной. В общем виде это неоспоримо, так же как неоспорима его собирательная способность. Выросший из мхатовского корня, он хорошо усвоил все, что можно было у Мейерхольда и Таирова. Он очень рано понял, какие возможности открывает брехтовская «поправка» в искусстве актера. Будучи одним из первых «выездных» наших режиссеров, он зорко всматривался в то, что делается в европейском театре. Он приобретал на Западе не только любимые им твидовые пиджаки, но нечто более существенное. Одним из первых прорубив окно в послевоенную Европу, он учитывал в своем искусстве работы Брука и Бергмана, которых хорошо знал. В конце 60-х он начал производить опыты по прививке поэтики абсурдистского театра к драматургии Горького. Ему и это сошло с рук.