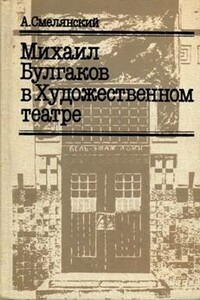Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 31
Олег Ефремов стал выяснять главный вопрос: соотношение цели и средств освободительной борьбы, когда неправые средства до неузнаваемости искажали высокую цель, так что уже никто не может припомнить, а была ли эта цель вообще.
В «Декабристах» Леонида Зорина Ефремов как режиссер и как актер (он играл императора Николая I) открывал сложную этическую загадку декабризма. Люди, о которых Александр Герцен писал как о богатырях, кованных из чистой стали, на допросах в казематах и на свиданиях с царем очень быстро «раскололись», не выдержали испытания. В спектакле этому находили оправдание. Люди, воспитанные в традициях дворянской чести, оказываются беззащитными перед логикой политической вседозволенности, воплощенной в царе-лицедее. Из мира мечтаний и прекраснодушных иллюзий первое поколение русских дворян-революционеров попадало в застенок. Правил такой игры они не знали и совсем не представляли, с какой адской машиной им придется иметь дело.
Проблема цели и средств уже здесь обнаружила свою тупиковую антиномию: или «аполитичная нравственность», или «безнравственная политика». Вопрос был поставлен театром со всей доступной ему художественной честностью. Но выхода из обнаруженного противостояния они не нашли — ни в пределах декабристского сознания, ни в границах своего собственного.
В «Народовольцах» Александра Свободина проблема цели и средств обретала новый поворот. Желябов, один из героев «Народной воли», и его товарищи охотятся за царем Александром II. Восемь покушений на царя, освободившего Россию от крепостного права, кончаются неудачей, пока наконец его не приканчивают. Мученики своей идеи, народовольцы вытравили в себе все чувства, кроме ненависти. Человек поглощался идеей. «Затерроризировалисъ...» — мрачно острил Желябов — Ефремов (труднейшую роль он и на этот раз взял на себя).
Всеми сценическими средствами Ефремов пытался показать изначальную трагедию «народовольчества». Народ, именем которого они клялись, был не просто равнодушен, но и враждебен революционерам. Лучшие актеры «Современника» играли ту самую народную сцену, которую так культивировал когда-то Художественной театр. Им было важно создать в мгновенных летучих портретах обывателей, крестьян, торгашей некий коллективный портрет народной среды. Народ толкался, говорил о своем, торговал, пил, пел. Тема освобождения народа обретала коварный оттенок, вроде того, как это сделано у Чехова в «Вишневом саде», где старик Фирс вспоминает освобождение от крепостного права как бедствие и «несчастье».