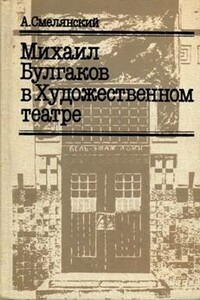Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века | страница 28
В 1964 году «Современник» перестал быть студией. Он стал нормальным советским театром. Актеры проверялись на прочность новыми историческими силами, которые они сами в своем искусстве предчувствовали. В 1966 году театр сыграл «Обыкновенную историю» И.Гончарова, спектакль, во многих отношениях переломный. Спектакль поставила Галина Волчек, а роман приспособил к сцене Виктор Розов. Центральной темой спектакля стало превращение человека. Театр стала занимать не столько сила обстоятельств, формирующих личность, сколько текучесть и податливость самого человека, которого общество лепит неотвратимо в одну и ту же заранее заготовленную социальную форму.
Дуэт Петра Адуева, печального циника, респектабельного чиновника николаевского времени, и его племянника Александра Адуева, провинциального восторженного юноши, приехавшего завоевать столицу, носил захватывающий характер. Михаил Козаков и Олег Табаков вели игру на тему превращения лица в маску. То, что такому превращению подвергался юноша, сыгранный Олегом Табаковым, придавало зрелищу особого рода аромат. За счастливчиком Табаковым с его ямочками на щеках и завораживающей солнечной улыбкой вился шлейф розовских мальчиков и других излюбленных героев нового поколения. Это он, Олег Табаков, в розовском спектакле «В поисках радости» срывал со стены отцовскую шашку и рубил проклятые мебельные гарнитуры, которые тогда представлялись символом ненавистного мещанства. И вот этот мальчик, «лирический тенор эпохи», повернулся совсем иной своей «готовностью». «Современник», не боясь самопаро- дии, резко поменял акценты и рассмотрел возможный вариант судьбы своего героя. Табаков с какой-то хищной точностью вскрывал в прекраснодушном молодом человеке бездонные запасы веселого, наглого и азартного приспособленчества. Дядюшка Адуев, как его трактовал Михаил Козаков, был циником старого покроя, его скепсис был по-своему симпатичным: он питался знанием жизни, житейским опытом. Племянник «превращался» мгновенно, не выдержав даже первых жизненных испытаний. Момент, когда на место восторженного юноши с пылающими глазами и ямочками на щеках являлся упитанный боров с прилизанными волосами и отчетливо проступившей «мордой лица», этот момент прорастания маски сквозь лицо был и весел, и достаточно страшен. То был какой-то острый сигнал, который тогда мало кто распознал.
Взаимоотношения человека и общества в спектакле были представлены в наивной метафоре некоего зелено-суконного государства чиновников, которые составляли своего рода хор. Чиновники-статисты восседали за столами, ставили штампы на каких-то бумагах, передавая их друг другу наподобие роботов. Они штамповали человека в заранее заготовленную форму. Так представлялась эта сложная тема в Москве 1966 года.