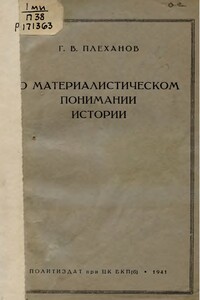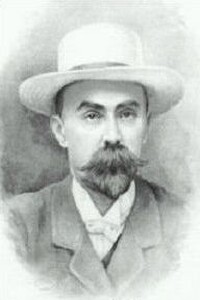Н. Г. Чернышевский. Книга вторая | страница 81
Так представляется дело, когда мы смотрим на него с точки зрения реальных отношений между производителями и присвоителями, между пролетариатом и буржуазией. С этой точки зрения самый вопрос о продаже рабочей силы является совершенно не в том свете, в каком он являлся Чернышевскому. Чернышевский думал, что рабочая сила несоизмерима с теми продуктами, на которые она обменивается на рынке. Но это не так. Рабочая сила имеет меновую стоимость, как и всякий другой товар. Уже буржуазные экономисты выяснили, чем определяется стоимость товара — рабочей силы. Она определяется количеством труда, "необходимого для поддержания жизни рабочего и для продолжения его расы". Меновая стоимость рабочей силы совершенно соизмерима с меновою стоимостью всякого другого товара. Конечно, не много хорошего в том порядке вещей, при котором рабочая сила человека фигурирует на рынке рядом с другими товарами. Но, осуждая его, мы не должны же закрывать глаза перед его законами. Отрицая соизмеримость рабочей силы с другими товарами, мы ничего не изменяем в фактическом положении обладателя этой силы, но зато затрудняем себе понимание этого положения. Чернышевский желал, чтобы рабочая сила перестала быть товаром. Это было очень хорошо с его стороны. Но, движимый своим похвальным желанием, он стал отрицать факт, с констатирования которого должно начинаться научное исследование вопроса о заработной плате. Это было уже большой ошибкой с его стороны. Но в этой ошибке нет ничего удивительного. Его понятия о стоимости вообще были, как мы видели, запутанны, а вследствие этого ему естественно было ошибаться и по вопросу о стоимости рабочей силы в частности. Достаточно сказать, что он, вместе с Миллем, считал возможным излагать учение о заработной плате прежде и независимо от учения о стоимости.
Когда религиозного человека преследуют тяжелые и постоянные неудачи, он утешает себя надеждой на будущую жизнь. "Потерплю здесь на земле, бог вознаградит меня на небе", — рассуждает религиозный человек, и действительно терпит столько, сколько не смог бы вытерпеть, лишившись своей веры. Но примиряющая с тяжелой судьбой вера в будущую жизнь возможна и без религии. По крайней мере, так думали вульгарные экономисты. Когда эксплуатируемые и угнетаемые капиталистами рабочие начинали обнаруживать недовольство своей участью, они рассказывали им чудные сказки о "прогрессе". По смыслу этих сказок выходило, что рабочему классу стоит только потерпеть немного в настоящем, чтобы обеспечить себе блестящее положение в будущем. "Прогресс непременно вознаградит их за все невзгоды, если они не замедлят его шествия революционными попытками. В своих панегириках прогрессу вульгарные экономисты часто и охотно ссылались на историю. Сравнивая прошлое с настоящим, они, разумеется, находили, что "прогресс" уже чрезвычайно много сделал для улучшения участи рабочего класса. Такой вывод предназначался для укрепления веры пролетариата в будущие благодеяния прогресса. Во всем этом было много шарлатанства, но не мало и простой наивности. Ограниченные, но признательные буржуа, веря во всемогущество своего благодетеля — прогресса, серьезно думали, что он может осчастливить рабочих, не нарушая интересов буржуазии.