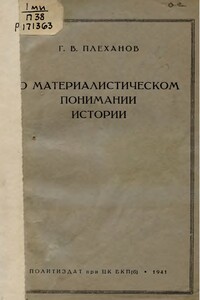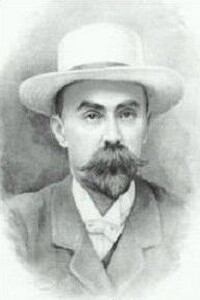Обоснование и защита марксизма. Часть 1-я | страница 46
Неудивительно поэтому, что способным и талантливым людям, не вовлеченным в ту борьбу общественных сил, в которой материализм являлся страшным теоретическим оружием крайней левой партии, это учение казалось сухим, мрачным, печальным. Так отзывался о нем, например, Гёте. Чтобы этот упрек перестал быть заслуженным, материализм должен был покинуть сухие, отвлеченные рассуждения и попытаться понять и объяснить с своей точки зрения "живую жизнь", сложную и пеструю цепь конкретных явлений. Но в своем тогдашнем виде он не способен был решить эту великую задачу, и ею овладела идеалистическая философия.
Главным, конечным звеном в развитии этой философии является гегелевская система, поэтому мы и будем указывать преимущественно на нее в нашем изложении.
Гегель называл метафизической точку зрения тех мыслителей — безразлично, идеалистов, или материалистов, — которые, не умея понять процесса развития явлений, поневоле представляют их себе и другим, как застывшие, бессвязные, неспособные перейти одно в другое. Этой точке зрения он противопоставил диалектику, которая изучает явления именно в их развитии и, следовательно, в их взаимной связи. По Гегелю, диалектика есть принцип всякой жизни. Нередко встречаются люди, которые, высказав известное отвлеченнее положение, охотно признают, что может быть, они ошибаются и что, может быть, правилен прямо противоположный взгляд. Это — благовоспитанные люди, до конца ногтей проникнутые "терпимостью": живи и жить давай другим, — говорят они своему рассудку. Диалектика не имеет ничего общего со скептической терпимостью светских людей, но и она умеет соглашать прямо противоположные отвлеченные положения. Человек смертен, — говорим мы, — рассматривая смерть, как нечто коренящееся во внешних обстоятельствах и совершенно чуждое природе живого человека. Выходит, что у человека есть два свойства: во-первых, быть живым, а во-вторых — быть также и смертным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что