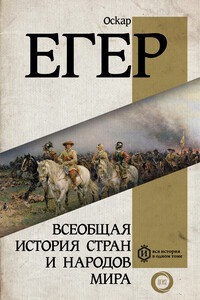Семиотика культуры повседневности | страница 93
Однако реальная жизнь, экономические условия и культурный уровень отвергли такое жилище. Как правило, большинство людей жило в убогих коммунальных квартирах, когда, как это описано в романе М. Кураева «Зеркало Монтачки», после занятий любовью надо было выстоять очередь в места общего пользования. «Половая жизнь в коммунальной квартире имеет свои особенности из-за прозрачности приватной сферы и до некоторой степени носит поэтому публичный характер»[147]. К счастью, обобществление жилья не состоялось. Но до конца советского строя осталось коммунальное жилье, где разные семьи сожительствовали в одной квартире, не имея между собой никаких связей, кроме жилой площади и совместного быта. Особенно сложно такое проживание касалось кухни. В 20-е годы казалось, что кухня отомрет, так как упование шло на развитие общественного питания: «разрушается источник грязи и копоти в квартире. Кухня, эта отрыжка дикости в Европе; преисподняя семьи, ее микроб смерти и разложения; источник разладов. На ней построено рабство женщины, хотя сама кухня — продукт социального режима … Она — одна из тех язв, которые губят человечество. Сифилис семьи.».[148] Такие идеи об обобществлении питания возникли не только из стремления об утопическом обществе. Подражая Австрии и Германии, которые из-за войны пошли на централизацию питания в целях экономии, массовое кормление, конечно же, не было демократическим, о чем в первую очередь декларировалось. Считалось, что общественное питание освободит женщин, улучшит здоровье, уравняет качество пищи богатых и бедных, будет способствовать рациональному расходованию продуктов. «Централизация кухни должна стать орудием полного уничтожения возможности для богатых стягивать в свои сепаратные кухни больше пищи, чем им полагается по их здоровью и работе сравнительно с общей наличностью припасов».[149] В 1924 году вышла книга «Нарпит», в которой освещались вопросы общественного питания.[150] Прекрасная идея освобождения женщин от тягот домашнего труда, в первую очередь — приготовления пищи, на деле оборачивалась плачевными итогами, и домашние кухни продолжали существовать.
Слом тех устоявшихся социальных групп, которые были характерны для дореволюционной России, сразу же отразился на интерьерах того времени. Представители господствующих слоев общества выгонялись из своих квартир, уплотнялись. Вспомним «Собачье сердце» М. Булгакова. Театральный художник Эдуард Кочергин вспоминает о своей работе в 60–70-е годы на Ленфильме, когда для инсценировки быта прошедших эпох специально давались объявления о покупке предметов быта разных этапов жизни российского общества, в обилии сохранившихся в Ленинграде. Ему приходилось бывать в разных домах. Щемяще грустные рассказы получились. Так, войдя в одну из коммунальных квартир, он увидел хозяек разных комнат одной квартиры, которая в первые революционные годы была уплотнена. Мебель из квартиры была демократично роздана тогда молодым комсомолкам. Поэтому в каждой комнате стояли вещи из разных гарнитуров. А сын прежних хозяев ютился в маленькой комнате для прислуги. Из мебели родителей у него, конечно же, ничего не осталось, ибо такие комнатки были не более 6 кв. м. Зато сохранился семейный альбом, где лица людей диаметрально отличались от тех, кто стал жить в их квартире. Озаренные духовным светом, они были совершенно непохожи на тех, кто стал теперь господствующим классом. Сын бывших обитателей квартиры сказал художнику: «Человек — это звучит горько». Это соответствует истории жизни советских людей, и репрессированных, и репрессировавших, что и отразилось в большинстве советских интерьеров. В другой квартире художник обнаружил бывшую дворянку, молоденькой девушкой оказавшейся в квартире, которую должны были реквизировать матросы. Один из них, влюбившийся в красавицу, спас от разорения дом. Молодым оставили квартиру, в которую были собраны предметы со всего дома. Теперь же, когда дом пошел в 70-е годы на капитальный ремонт, этой паре выделили квартиру в новостройках, где громоздкие вещи поместиться не могли. И хозяйка со знанием дела говорила: «Это Павловский стол, это николаевский секретер, это Александровское псише…».