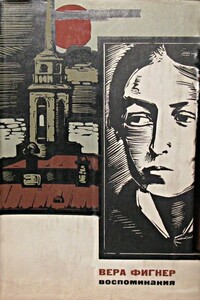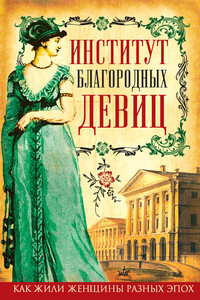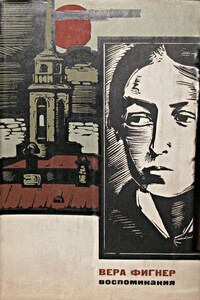После Шлиссельбурга | страница 50
Рассказывали, что на границе Тетюшского и Буинского уездов, в имении Теренина, были «аграрные беспорядки»: крестьяне держали своего помещика в блокаде, не пуская никого ни к нему, ни от него, и принудили в одном имении «простить» крупную порубку, в другом — сдать крестьянам в аренду желанную им землю.
У купца Кривошеина крестьяне самовольно свезли к себе рожь с поля. Полиция советовала не противиться, а подать в суд: «он взыщет в лучшем виде».
В Барских Каратаях два крестьянина, арендовавшие 30 десятин земли, на которую метила вся крестьянская община, могли засеять их только под охраной полиции.
В Людоговку губернатор выслал роту солдат, потому что на выморочное имение помещика Цельшерта, перешедшее к дворянству, крестьяне претендовали, как на свое наследие, и объявили, что они скорее умрут, чем отдадут землю. Представителя дворянства они заставили убраться подобру-поздорову, отняли у него ключи, заколотили окна усадьбы, прекратили рубку леса…
В Тетюшах одно время царили страх и ужас, потому что местные рабочие грозили идти громить дома купцов, если на земляные работы по устройству спуска к Волге работа будет сдана не им, а вятичам. Конфликт был разрешен дипломатическим вмешательством исправника, который предложил разделить работу так, что внизу горы поставить местных рабочих, а наверху, где требовалась большая опытность, землекопов-вятичей.
Наконец в тех же Тетюшах на хлебной пристани произошла настоящая стачка: грузчики забастовали, требуя увеличения платы. Купцы не соглашались, но тот же дипломат-исправник предложил им уступить, и купцы подчинились.
Эти и другие факты были сами по себе мелки, но среди вечно покорного и смиренного населения производили сенсацию и все же свидетельствовали, что призрак, о котором Леонид Андреев повествует в «Сашке Жегулеве», что он неслышными стопами ходил в те годы по земле русской и сеял смуту и тревогу, все же не миновал и наш забытый край, и хоть мимолетно, но промелькнул и в нашем уезде.
Контраст между деревней и городом выступил особенно резко во время октябрьской забастовки и последовавшего за ней манифеста о свободах. В деревне не было затишья от прекращения железнодорожных и почтовых сообщений; не произошло застоя во всех делах. Железная дорога не пересекает уезда, а почтой деревня пользовалась в то время в совершенно незаметной мере, — таким образом никаких перемен в сношениях с внешним миром не произошло. Суд, банки, высшие и средние учебные заведения, из которых на улицы высыпала и прибавила шума учащаяся молодежь, — все это не в деревне, а в городах. Скопления развитых волнующихся рабочих в деревне нет: нет толпы — нервной, наэлектризованной слухами, опасениями, к чему-то готовой, к чему-то готовящейся; нет сходок, собраний и совещаний, где все, от мала до велика, от чиновников вплоть до институток, спешат выявить свои неудовольствия, нужды и требования: здесь — разъеденные людские атомы, не затронутые идейными влияниями и страстными исканиями. А потом, при разрешении кризиса — в городах общий вздох облегчения, крик радости. «Да здравствует свобода!» — раздается на улицах. «Да здравствует свобода!» — провозглашают столбцы газет. И люди взволнованы, чувствуют подъем, не могут усидеть дома и спешат, бегут к друзьям, к знакомым, на улицу, чтобы поделиться радостью и пожать руку, хотя бы незнакомому.