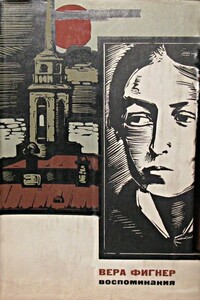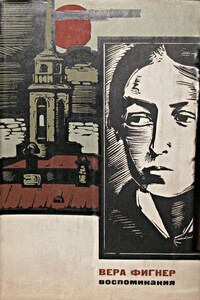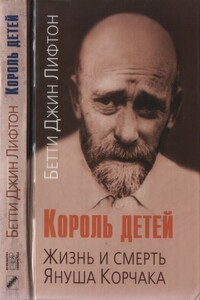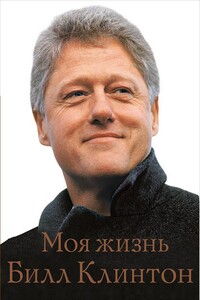После Шлиссельбурга | страница 101
Если Савинков говорил о Гоце с жаром, а о Каляеве с энтузиазмом, то об Иване Николаевиче (псевдоним Азефа) он отзывался с глубочайшим почтением. «Иван — крупный человек!», «Иван — большой человек!» — было постоянным припевом ко всем рассказам о боевой деятельности партии. В человеке, в каждом слове, каждом жесте которого чувствовалось, что он знает себе цену, такое подчеркивание талантов товарища, с которым он шел в работе рука в руку, казалось мне в высшей степени привлекательным. «Иван обладает великим талантом организатора; он умеет составить верный план, предусмотреть все опасности и устранить все препятствия и помехи», — говорил Савинков. И всегда он ставил при этом самого себя в тень; впереди всегда стояла крупная фигура Азефа. То, что такая талантливая личность, испытанная на опасных делах боевой организации, воздает честь и славу Азефу, которого в течение нескольких лет он мог наблюдать бок о бок с собой, в самых разнообразных положениях, чреватых явными и скрытыми опасностями, совершенно ослепляло меня и заражало верой, отстранявшей потом всякую тень сомнения в Азефе. В самом деле, разве не имело решающего значения свидетельство такого близкого товарища Азефа, как Савинков, который имел множество случаев заметить и подсмотреть фальшь и лицемерие, если б они были? Слушая Савинкова, казалось невозможным усомниться в честности Азефа, в правдивости и в преданности его революции.
Доверие к словам Савинкова и внушенная им вера в Азефа, поддержанная потом свидетельством других руководящих членов партии, легли великой тяжестью на мою революционную совесть, потому что я не противилась внушениям и слепо следовала за другими, когда впоследствии внутренний голос уже подсказывал мне, что Азеф не верен.
Савинков рассказывал мне и об аэроплане, строившемся в Баварии, о котором Азеф говорил мне в Аляссио. Савинков ездил к изобретателю-инженеру, Сергею Ивановичу Бухало, был в мастерской, в которой сооружался аэроплан. Он верил в инженера, в целесообразность и выполнимость его изобретения. «Я полечу на этом аэроплане», — говорил он и, подобно Азефу, с гордостью подчеркивал, что последнее слово науки будет отдано в руки партии на дело революции.
Однажды в сумерки я сидела в кресле, а Савинков на полу, возле меня; разговор зашел, как заходил не раз и раньше, о будущем применении этого аэроплана. Тут произошла сцена, которая показалась мне комедией.
Подобно тому, как позже он развивал это в романе «То, чего не было», он говорил о тяжелом душевном состоянии человека, решающегося на жестокое дело отнятия человеческой жизни; говорил о страдании, которое испытывает, решаясь на дело с аэропланом; о Голгофе, на которую идет революционер-боевик… Это была исповедь, было стенание. И тут я усомнилась в искренности и правдивости Савинкова; слова звучали деланно, фальшиво. Я сказала: