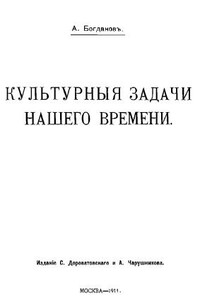Судьба и грехи России | страница 71
==71
группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.
В дальнейшем мы делаем попытку в размышлении над общеизвестными процессами русской истории дать посильный ответ на вопросы: как возможна интеллигенция в указанном понимании, когда она возникла в России и может ли она пережить революцию?
История русской интеллигенции есть весьма драматическая история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог — и даже два.
ПРОЛОГ В КИЕВЕ
Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или с потопления Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для трагедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая связь. Принятие христианства варварским народом всегда есть акт крутой и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилась и германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов. У нас процесс истребления славянской веры, по-видимому, протекал даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитивнее германского. Призвание варягов — иначе, иноземное завоевание, кладущее начало русской государственности, — тоже не наш лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национально чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это не помешало пришельцам и на Западе, и у нас быстро раствориться в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственный характер варяжских экспедиций на Руси не столь резко выражен, подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начальной легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемных сторожей на службе городских республик.
Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли — по крайней мере на памяти истории — как сила чуждая против народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мнихи» Древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее интеллигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, а вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность... Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Они были учителями признанными, хотя и не всегда терпеливыми. При всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жестоких
==72
нравов церковный проповедник далек от сознания пропасти, отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой живет русская интеллигенция средины XIX века.