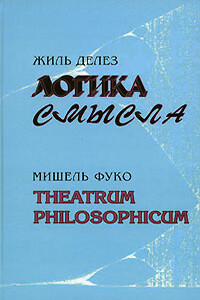Судьба и грехи России | страница 151
9. БЫЛА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ НЕОТВРАТИМОЙ?
Ставить так вопрос — не значит ли заниматься пророчествами наизнанку: гаданием о том, что могло бы быть и чего не было? — Самый никчемный, ибо ни на что не вдохновляющий вид пророчеств. — Вопрос этот может иметь смысл лишь как новая, оценочная и в то же время поверочная форма нашей аподиктической схемы. Отчасти это вопрос о вине и ответственности, отчасти поправка к безнадежно черной картине, умышленно односторонней, ибо предназначенной для объяснения гибели.
И вот, на пороге последней катастрофы, мы останавливаемся, чтобы сказать: не все в русской политической жизни было гнило и обречено. Силы возрождения боролись все вре-
==166
мя с болезнетворным ядом. Судьба России до самого конца висела на острие — как судьба всякой живой личности.
Начнем издалека.
Первый признак государственного упадка в России мы усматривали в политической атонии дворянства. Заметное с конца XVIII века явление это связано—отчасти, по крайней мере, — с крушением его конституционных мечтаний. Даже если мечтания эти не были ни особенно сильными, ни особенно распространенными, в интересах государства было привлечь дворянство как класс к строительству Империи: возложить на него бремя ответственности. Всенародное представительство в виде Земского Собора было невозможно с того момента, как все классы общества, кроме дворянства, остались за порогом новой культуры. Но дворянский сейм был возможен. Он сохранился повсюду в Восточной Европе, и русские государственные деятели часто испытывали его соблазн. Эта аристократическая (шведская) идея жила и в век Екатерины (граф Панин), и в век Александра I (Мордвинов). Декабристы — значительная часть их — усвоили демократические идеи якобинства, беспочвенные в крепостной России. Но и среди них, а еще более в кругах, сочувствующих им, в эпоху Пушкина были налицо и трезвые умы, и крупные политические таланты, чтобы, сомкнувшись вокруг трона, довести до конца роковое, но неизбежное дело европеизации России. Конечно, эта задача делала невозможным немедленное освобождение крестьян, которое неминуемо ввергло бы Россию в XVII век. Единственный шанс русского конституционализма в начале XIX века — это что крестьянство могло бы н е заметить перемены, всецело заслоненное от государства лицом помещика. Новый строй был бы принят им на веру, на слово царя. Постепенное приобщение к представительству других слоев — духовенства, интеллигенции, купечества — сообщало бы земский характер Собору, открывало бы возможности нормальной демократизации, плоды которой со временем достались бы и освобожденному крестьянству. Конечно, в тот день, когда царь апеллирует к народу, от дворянства не останется ничего. В этом, в необходимости политического самоограничения царя, и заключается практический утопизм конституционного пути. Абсолютизм нигде и никогда себя не ограничивал, а в России не было силы, способной ограничить его извне. Весь этот первый политический ренессанс — дворянский — был задушен навсегда тяжелой рукой Николая I.