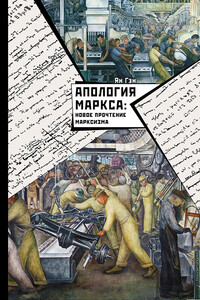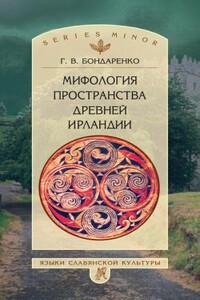Судьба и грехи России | страница 138
В 80-е и 90-е — чеховские — годы единственным представителем русской силы и предприимчивости был русский купец, это часто грубая, жестокая сила — но она спасала нацию на фоне дворянской атонии. Горький-босяк, ненавидевший мещанство, — дал трагические образы этой стихийной силы, разрушительной в слепоте своей борьбы за освобождение. Имморализм все еще отмечает успехи нового господина жизни. Народная память и литература отражают темное, нередко преступное происхождение недавних богатств. Обобрал хозяина, казну, а то и зарезал кого-нибудь темной ночью, — эти зловещие легенды плетутся по Руси за многими из миллионщиков и отцов города. Но и для такой карьеры недостаточно дерзости и счастья. Яркая талантливость окрашивает социальное восхождение новых людей. Они стоят художественных биографий, они еще ждут своего Плутарха.
На фоне старого, удушливого, скаредного быта творится сказка из мира кондотьеров, завоевателей России. Для пол-
==151
ноты аналогии московские Медичи превращаются в меценатов. Уже 80-е годы Мамонтов окружает себя художниками, создает оперу, подмосковную усадьбу свою превращает в памятник-музей русской художественной культуры. За ним идут другие: Третьяковы, Морозовы, Рябушинские, собиратели картин, основатели театров, клиник, журналов. С начала XX века Москва начинает явно претендовать на культурное первенство перед петровской столицей. И вместе с тем всем своим цветением она обязана новым хозяевам жизни. Вклад торгово-промышленного класса в русскую культуру обгоняет не только вклад дворянства, но даже государственную инициативу. Для интеллигенции находятся новые организаторы ее творчества, которые дают нередко из своих рядов и первоклассных культурных деятелей. Провинция отстает от Москвы, но Пермь, Сибирь уже шлют новых людей.
Купеческое меценатство — явление настолько недавнее в русской жизни, что интеллигенция не успела приспособиться к нему, не успела как будто заметить его. Менее всего — революционная интеллигенция. Впрочем, для нее имелось некоторое оправдание. Политическое пробуждение русской буржуазии значительно отставало от ее культурного роста. Новая сила не предъявляла никаких притязаний на власть. Давно уже голос торгово-промышленногокласса звучал на съездах, но всегда в разрез с голосом русской «общественности». Вместо свобод он требовал от государства покровительственных тарифов. Протекционизм был, конечно, необходимой теплицей для русскойпромышленности, но в его банной температуре атрофировалась политическая воля. Пока государство было дойной коровой, промышленники охотно мирились с безвластием. Их угол в избе был невидный, но теплый. Однако проблема деревенского рынка вводила русского предпринимателя в курс роковых вопросов русской жизни. Постепенно верхи класса втягиваются в колею либеральной оппозиции. Путь политического радикализма был заранее отрезан тем социалистическим характером, который приняло русское революционное движение. С рабочими шутки плохи. В 1905 году фабриканты, случалось, заигрывали с левыми партиями. Не один Морозов давал деньги на большевиков. Но забастовки были слишком разорительны. Призрак диктатуры пролетариата и крестьянства не улыбался. Оставалась средняя тропа октябризма, для немногих — партия к.-д.