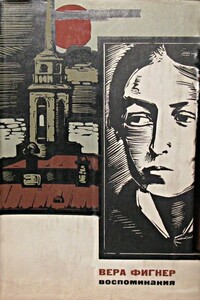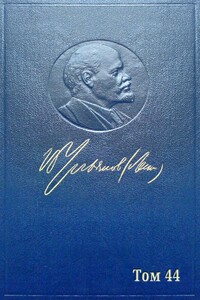Запечатленный труд (Том 2) | страница 15
Не знаю, что давала я Л. А., но она была моим утешением, радостью и счастьем. Мои нервы и организм были потрясены в глубочайших своих основах. Я была слаба физически[14] и измучена душевно… Общее самочувствие мое было прямо ненормально, и вот я получила друга, на которого тюремные впечатления не действовали так губительно, как на меня; и этот друг был воплощением нежности, доброты и гуманности. Все сокровища своей любящей души она щедрой рукой отдавала мне. В каком бы мрачном настроении я ни приходила, она всегда умела чем-нибудь развлечь и утешить меня. Одна ее улыбка и вид милого лица разгоняли тоску и давали радость. После свидания я уходила успокоенной, преображенной, камера уже не казалась мне такой сумрачной, а жизнь — тяжелой. Тотчас я начинала мечтать о новой встрече завтра… Свидания были через день: тюремная дисциплина, очевидно, находила нужным разбавлять радость наших встреч днем полного одиночества. Но это, быть может, только обостряло наше стремление друг к другу и поддерживало то «праздничное» настроение, о котором впоследствии было так приятно вспоминать.
Когда в тюрьме происходило какое-нибудь несчастье, когда умирали наши товарищи, стоны и предсмертную агонию которых мы слышали отчетливо в стенах тюрьмы, замечательно отзывчивой в акустическом отношении, мы встречались бледные, взволнованные и безмолвные. Стараясь не смотреть друг другу в лицо, мы целовались и, обнявшись, молча прохаживались по дорожке или сидели на земле[15], прислонившись к забору, подальше от жандарма, следившего с высоты своей вышки за каждым нашим движением. В такие дни простая физическая близость, возможность прижаться к плечу друга была уже отрадой и облегчала тяжесть жизни. Был в 1886 году месяц, когда один за другим умерли Немоловский, Исаев и Игнатий Иванов — все трое от туберкулеза; последний, кроме того, был безумен.
Пока Исаев был на ногах и ходил гулять, его громкий, хриплый и словно из пустой бочки кашель надрывал душу, если приходилось быть рядом… Иногда же нас приводили в ту самую «клетку», где перед тем был он. На снегу справа и слева виднелась алая, только что выброшенная им кровь. Эта неубранная, не прикрытая хотя бы снегом кровь товарища вызывала щемящую тоску…
Это был символ иссякающей жизни — жизни товарища, которому не поможет наука, никакая сила человеческая… И отвести от этой крови глаз было некуда. Небольшое пространство «клетки» было сплошь завалено снегом; оставалась лишь узкая тропинка, по которой поневоле только и приходилось ходить. Отвратительно было это палачество, которое несколькими ударами лопаты могло скрыть кровавый след, но цинично оставляло его на муку и поучение невольных посетителей… Нам же тогда не давали даже лопаты.