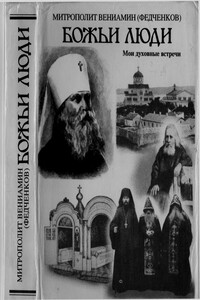На рубеже двух эпох | страница 152
Мой оппонент был так озадачен, что ничего не нашелся ответить, а монахи, должно быть, были довольны. В это время о. трапезный доложил мне: "Завтрак готов". И отряд за мною пошел в трапезную, шагах в 30 пониже. Я уже не сел на хозяйское место во главе стола, а занял место справа. Против меня сидел начальник, дальше - члены отряда. Подали молочную кашу (в монастыре были свои коровы на особом скотном дворе), молоко, яйца, масло, белый хлеб.
Чуть не в самом начале завтрака сидевший напротив меня начальник отряда обращается ко мне и говорит, сжимая кулак (стол был шириною четвертей в 5-6, не больше): "Я сам бы всех попов перерезал!"
Что я мог сказать на это? Если бы он в этот момент и застрелил меня, все равно был бы безответен. Белый архиерей, а разве белые в то время что-нибудь стоили? Для них был один ответ: "К стенке" или "Вывести в расход", а иногда еще говорили: "Отправить в штаб Духонина". Генерал Духонин был при Керенском начальником главного штаба на фронте, потом был убит большевиками-солдатами. Отправить в его штаб значило убить. Мне ничего не оставалось, как промолчать. А что я тогда почувствовал, не помню. Если не ошибаюсь, то мне было все равно. Странно: спокойствие не покинуло меня и тут. А Давыдов еще добавил: "Вон и того, предателя вашего, тоже нужно бы повесить!"
И он указал мне на офицера, сидевшего последним в ряду завтракавших на стороне начальника. Я взглянул на него. Прежде я как-то не заметил его: или он скрывался от меня из-за своего предательства, или я не успел обратить на него внимания среди кучи чужих людей. Между тем он выделялся один из всех, так как был одет в светло-серую шинель, какие носили наши щеголеватые офицеры. Другие были одеты или в коричневые военные рубахи, или френчи. Указанный офицер (так хочется мне назвать его) был среднего роста, но тощий, беловолосый, про таких людей говорят иногда: "Так, ничего себе!" Серое впечатление, но неплохое, обыкновенное. Посмотрев на предателя своего, я совершенно не испытал к нему никакого чувства, ни дурного, ни хорошего, а скорей безразличное, немного жалкое: бедный, несчастный. И могу уверить, ничуть не осудил его. А разве он был хуже сидевшего напротив меня, готового перерезать всех попов? Но и к этому я отнесся тоже равнодушно: будто никто ничего не сказал мне. Тогда все подобное было в порядке вещей, и даже более страшное, то есть реальная смерть стояла перед каждым из нас, белых, всякий час.