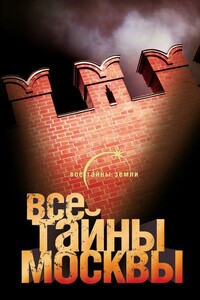Юный, юный Илья | страница 15
Мать бочком протиснулась к Илье:
– Ты, сынок, ходил бы на уроки. Образованному-то легче в жизни. Что от меня, недоучившейся, взять? Нечего. А ты учился бы…
– Ладно! – резко прервал Илья.
– Ты на отца не сердись: он – добрый…
– Знаю.
– На меня-то не обижался бы…
– Нет!
Огорченная мать вздохнула и тихонько вышла.
Илья сидел в полутемной комнате, задавленной серо-лиловыми – будто грязными – тенями. Наваливался вечер, сумерки набирались сил и вытесняли из комнаты свет дня. Илья направил мрачный упрямый взгляд на чернеющее полотно начатой картины, не шевелился, сжимал дыхание. Неожиданно жалобно, скуляще заплакал, но очень тихо, чтобы не услышали. Слезы обжигали щеки и губы. Горе, придавившее его, казалось, не поднять, не стряхнуть и не опрокинуть. Это горе происходило не потому, что его отругали и выпороли, а потому, что нынешней весной он как-то обвально повзрослел и в нем открылся новый, пугавший его взгляд на жизнь.
То, что раньше Илья воспринимал и принимал серьезно, без возражений, теперь представлялось то ничтожным, то неважным, то до обозления пустым. Он усомнился в своей семье, которая недавно представлялась самой правильной, разумно устроенной. "Зачем живут мои мать и отец? Ради нас, детей? Спасибо им, но как скучно так жить. Мама всю жизнь простряпала пирожки и простирала наше белье, а могла бы развиться как художница. Отец прокрутил гайки на заводе, – ужасно! Они довольны, что имеют квартиру, кое-какую мебель, "Москвич", что могут сытно и вдоволь поесть, а мне этого уже мало. Ма-ло! Мне хочется чего-нибудь… чего-нибудь…" Но он не умел пока назвать, чего же именно.
За мольберт Илья не сел – сухо и пустынно было в сердце… Когда проходил через зал, случайно увидел за шкафом угол картонки – картинку матери. Тайком вынул, глянул и подумал, что вот оно настоящее искусство. Это оказалась последняя работа Марии Селивановны, которую, видимо, можно было назвать "Зимний лес". Кругом стояли березы, присыпанные большими снежинками; деревья – белые, узорчатые, нарядные, – и представилось Илье, что девушки в сарафанах водили на лесной опушке хороводы.
Он про себя нередко посмеивался над матерью, считал ее художество несерьезным, а сейчас увидел и понял: "А не она ли настоящий художник из нас двоих? За свою долгую жизнь она не растеряла светлое и чистое в своем сердце, мне же всего семнадцать, но, может быть, моя душа уже высохла и покоробилась?" – так странно подумалось ему.
Он вернулся в свою комнату и бритвой разрезал на мольберте холст.