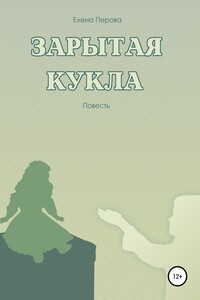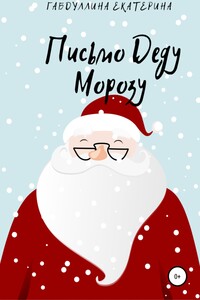На рыбачьей тропе | страница 65
Плюнет она и убежит.
Долго эта история тянулась. Как Дарья выгонит кур на выгон, так вот она — лиса. Выгоню я — тишина и спокойствие. Я и ружье с собой брал, думал: «Ну вот выскочит под мушку». И ничего.
«Что за петрушка? Боится меня, что ли?» — размышлял я над той задачей. Прикинул так, этак и говорю Дарье:
— Дай-ка сегодня я за тебя подежурю.
— Это с чего ж ты такой добрый?
— Хочу лису перехитрить. И одежу мне свою давай.
Дарья потрогала у меня затылок — мол, не горячий ли, хмыкнула и пошла в курятник переодеваться. Натянул я ее юбку, блузку, подвязался платочком, на плечи белый халат набросил, а под полой ружье спрятал. Вышел в таком виде на выгон — глядь, председательский «Москвич» подкатил. Кричит председатель:
— Здравствуй, Дарья Ильинична! Как лиса, больше кур не крадет?
«Ну, — думаю, — раз сам председатель во мне Дарью признал, значит, лиса и подавно с панталыку собьется»
— Я ей нынче, Петр Игнатьич, поворую! — кричу председателю, а сам с головы косынку сдернул.
Расхохотался Петр Игнатьич, хлопнул дверцей, укатил. А я присел на пустое ведро, покуриваю, на кур поглядываю, а палец на курках держу.
Вот тебе от овражка куры метнулись. Гляжу: из-за куста лисья морда. Ушки торчком, нос так и вертится. Потянула она воздух и на меня уставилась: то ли цигарку увидела, то ли махорку до нее ветром донесло. Долго на меня смотрела, все, видно, гадала, что, мол, нынче за Дарья такая с папиросой? А потом все ж решилась. Осторожно прокралась по кустам бурьяна, поближе к курам и залегла. Бурьян рыжий, и она рыжая, едва приметна глазу. Присмотрелся я получше, вскинул ружье, да как шарахнул сразу из обоих стволов…
Дмитрий хлестнул лошадей концами вожжей, повозка дернулась, покатилась быстрее, поднимая за собой ленивое облако горячей пыли.
Наконец кончилась однообразная полевая дорога, и мы выехали на холмистое левобережье Сейма. По крутым склонам, спускавшимся к реке, лепился орешник, а в лощинах, то и дело разрезавших береговые холмы поперек, густел лес из стройных русских кленов, молодых дубков, диких груш и бересклета. Местами среди густой зелени белели известняки, когда-то размытые бежавшей по оврагам вешней водой. Теперь овраги уже поросли лесом, и только самые крутые их склоны, на которых не держится почва, оставались обнаженными.
С крутояров, порой вздымавшихся метров на сорок над петлистой лентой реки, открылось широкое пойменное приволье, млеющее в знойном мареве. Горизонт сразу отодвинулся километров на двадцать пять, а то и больше, куда-то за самые дальние полоски леса, голубеющие у края земли. Отсюда, с берегового обрыва, небо казалось выше и как-то особенно яственно чувствовалась его прозрачная, жутковатая своей бездонностью глубина. Парящие над долиной облака не скрадывали этой глубины, не казались плоскими, какими их видишь обычно снизу. Они двигались величавыми белокипенными громадами, а в это время их тени мчались наперегонки по заливным лугам, уставленным стогами сена, и закрывали собой целые деревни. Было видно, как под ними тускнела, будто отпотевшее стекло, зеркальная гладь стариц и озерков, как наливались свинцом янтарные волны спеющей пшеницы. И до чего же отсюда, с высоты Засеймья, просторной кажется земля! Видишь сразу несколько селений со всеми подробностями: безошибочно находишь колхозные подворья, школы, клубы, молодые сады-первогодки.