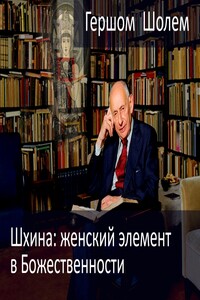Основные течения в еврейской мистике | страница 34
8
Вернёмся, однако, к нашему исходному пункту. Как мы видели, и мистики, и философы старались возродить иудаизм на новом уровне. И всё же между ними имеется весьма существенное различие, хорошим примером которого может служить концепция ситрей Тора (тайн Торы). И первые и вторые толкуют о раскрытии этих тайн, и философы так же широко пользуются этой эзотерической терминологией, как и подлинные адепты тайных учений и каббалисты. Но как понимал эти тайны философ? Как истины философии, истины метафизики или этики Аристотеля, Аль-Фараби или Авиценны – истины, которые можно обнаружить вне сферы религии и которые были перенесены в старинные книги с помощью аллегорического или типологического толкования. Поэтому свидетельства религии мыслятся не как выражение обособленного и определённого мира религиозной истины и реальности, а как упрощенное описание связей, существующих между различными идеями философии. Повествования об Аврааме и Сарре, Лоте и его жене, двенадцати коленах и т. д. являются просто описаниями связи между материей и формой, духом и материей или между четырьмя способностями души. Даже если аллегоризация не доводилась до таких абсурдных крайностей, наблюдалась тенденция рассматривать Тору лишь как проводник философских истин, правда, проводник необычайно возвышенный и совершенный.
Другими словами, философ может приступить к выполнению своей истинной задачи лишь после того, как он преобразует конкретные реальности иудаизма в некий пучок абстракций. Единичное явление не служит объектом его философской спекуляции. Напротив, мистик старается избежать истолкования религиозного повествования в аллегорическом духе, дабы не повредить его живой ткани, что не мешает аллегории занимать видное место во многих сочинениях каббалистов. Образ мыслей мистика я склонен определить как символический в строжайшем смысле слова.
Этот вопрос требует более подробного разъяснения. Аллегория представляет собой бесконечное переплетение значений и взаимосвязей, в котором всё может стать знаком для всего остального, но только в границах определённого языка и определённого способа выражения. В этом смысле можно говорить об имманентности аллегории. То, что выражается аллегорическим знаком, является прежде всего чем-то, что обладает своим собственным смысловым контекстом, но, став аллегорией, утрачивает свой первоначальный смысл и становится средством выражения чего-то другого. Поистине аллегория восстаёт как бы из бездны, разверзающейся в этот момент между формой и значением. Форма и значение перестают быть неразрывно связанными: значение – именно с этой определённой формой, а форма – именно с этим смысловым содержанием. В аллегории неисчерпаемое значение раскрывается в каждом знаке. Ситрей Тора, уже упоминавшиеся мной, были для философов естественным предметом аллегорического истолкования. Эти аллегории служили выражением новой формы средневекового сознания, что предполагало завуалированную критику старой.