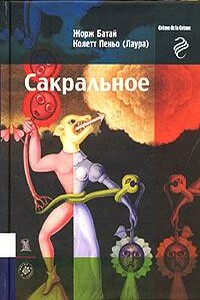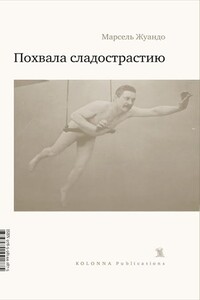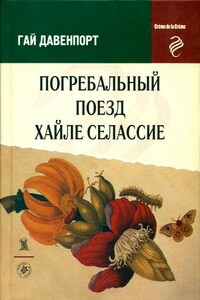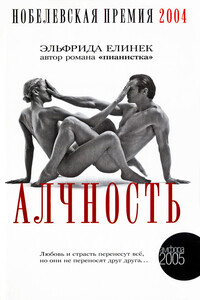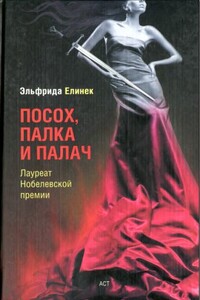Эссе, выступления, интервью | страница 22
А.Б.: Да, действительно трудный вопрос — хотя бы вот по какой причине: если писатель атакует и разоблачает ложный язык (к примеру, как Карл Краус с его цитированием, или Элиас Канетти с его «акустическими масками», или же Венская группа), то ему с самых разных сторон адресуется вопрос: понятно, против чего Вы боретесь — но вот за что Вы боретесь? «Где же положительная программа, господин Кестнер?» — спрашивали знаменитого немецкого сатирика. Я имею в виду здесь два уровня: с одним уровнем все обстоит относительно ясно, насколько мне позволяет судить об этом мой читательский опыт, — современная сатира не должна более опираться на определенные моральные учения. Мой вопрос касается второго уровня: из Ваших текстов ясно, против какого языка Вы боретесь, а вот за какой язык Вы боретесь? Или Вы боретесь за «тишину» (Ингеборг Бахман)? Боретесь за бессловесность?
Э.Е.: Я не борюсь за какой-то «конкретный» язык или за что-либо подобное. Я не предлагаю никаких утопических решений. Я ощущаю себя критиком, и я занимаюсь критикой языка. И на этой основе каждый должен заниматься деконструкцией собственного языка. Можно назвать то, что я делаю, буквалистской практикой, то есть, я ловлю язык на слове, я называю слова их именами, а еще это можно назвать неким процессом метафоризации. Я использую цитату и ввожу ее в контекст новой метафоры. Это как в калейдоскопе: внутри него все те же одинаковые стеклышки, но они раскладываются и снова складываются в разнообразные узоры. Цитаты изымаются из старого контекста и прописываются в новый, таким образом, они меняются, в них, так сказать, вписывается новый смысл. Ну, а положительная программа? А ее нет, ведь не существует ни передающего, ни принимающего сознания, каждый составляет для себя свой собственный текст, над которым затем снова трудятся другие, прописывая в него себя.