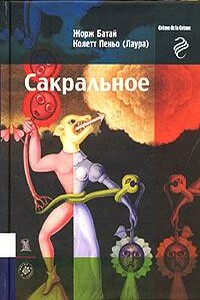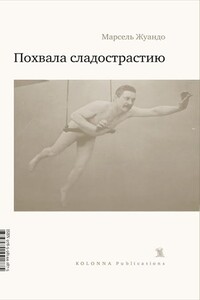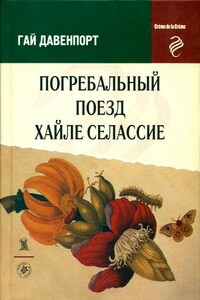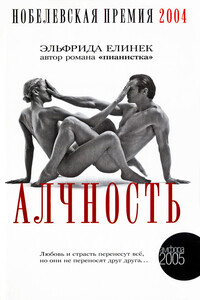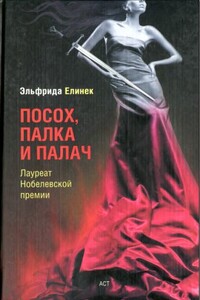Эссе, выступления, интервью | страница 14
А.Б. Как вы представляете себе вашего «идеального» читателя? Нужен ли он вам? Должен ли он быть близким вам по умонастроению, любить то, что нравится вам, и ненавидеть то, что ненавидите вы?
Э.Е. Читатель вовсе не должен иметь те же представления о мире, что и я. Совсем наоборот. Но он должен уметь подходить к тем вещам и проблемам, о которых я пишу, без предубеждения. Он должен понять не только то, о чем я пишу, но и почему я пишу так, а не иначе. Почему, например, в моем романе «Похоть» персонажи из рабочей среды изъясняются цитатами из Гельдерлина, а персонажи из высших слоев общества — тривиальным, клишированным языком толпы. Словом, герои по сути «безмолвные» наделены лучшим, что существует в языке, а другие, которые хотят защитить язык от влияния простонародья, получают то, чего они заслуживают: убогий язык рекламы и масс-медиа. Таким образом, восприятие не должно быть направлено исключительно на содержание произведений… Я использую авангардные приемы, разработанные, например, «Венской группой»[7] еще в 50-е годы, а до них применявшиеся дадаистами и сюрреалистами (традиция эта у нас была прервана с наступлением нацизма). Поэтому мои тексты останутся непонятными, если их воспринимать просто как тексты скандального содержания. Мой идеальный читатель должен быть всего лишь открыт навстречу произведению и готов всюду следовать за мной.
А.Б. Какую роль играет для вас литературная традиция? Можно ли трактовать то, что вы упомянули Брехта и литературный авангард («Венскую группу») как ответ на этот вопрос? Есть ли у вас другие «родители» или «прародители» в литературе? Ощущаете ли вы какое-нибудь влияние русской литературы?
Э.Е. «Венская группа» сыграла главную роль в становлении писателей моего поколения, ориентированных на языковой эксперимент. И в меньшей степени речь здесь идет о языковой игре, а в большей — о строгом эксперименте с формой. В моем случае на это влияние затем наложилось влияние поп-литературы 60-х годов, так называемых «cut-up»