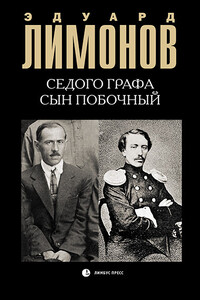Повести и рассказы | страница 75
Но, может быть, именно в этот одинокий закатный вечер и запрется Маруся от всего мира, выключит радио, включит полинявший, уже немодный абажур со знаками зодиакальных созвездий по ободу, вытащит из дивана брезентовую противогазную сумку, дернет тугие ржавые кнопки, вздохнет и сразу подумает, что можно ведь написать письмо в Международный Красный Крест и вполне можно разыскать адрес одного полузабытого скитальца. Ведь ничего особенного не случится, если она напишет ему, а он ответит, если жив. И, кто знает, может быть, они еще увидятся разочек!
— То есть? — с полной строгостью старшей сестры переспросит Серафима Мурзиньку. Однако чашку тут же уберет из книжного шкафа в бельевой, там закроет. — Ты нахал, Мурзинька! С какой стати она твоя?
— Объясню, — неторопливо ответит Мурзинька. — Кто истинный наследник фамильных реликвий?
У брата перед Серафиминой одинокой столичной удачливостью будет к тому времени неоспоримый козырь — сын - при Серафиминой бездетности.
— Мрак, и больше ничего! — ответит Серафима. — Где ты видишь реликвию? Что тебя волнует?! Какие огромные мелочи занимают твою голову?! Тебе не стыдно?
Брат перед тем две недели проведет на байдарке в астраханских плавнях, не поленится сделать крюк и завернуть в Москву, вполне, может быть, ради этого разговора.
— Не базлай! — скажет брат портовое словечко из лексикона тети Яси, вероятно комбинированное из «не базарь» и «не лай», хотя, может быть, производное от «банзай», лексическая памятка о русско-японской кампании в начале века. — Ведь тебе же хуже, если детство единственного племянника пройдет без фамильных мелочей, так необходимых для чувства причастности к роду! Я обязан рассказывать ребенку семейные истории!
— Да, Мурзинька! У нас их много! — обрадуется она.
— Мне нужны наглядные пособия, — возразит он.
— Кто бы мог подумать! — станет злиться Серафима. — Я здесь одна, далеко от дома... Чашка меня греет!.. Кто бы мог вообразить, что человек, стащивший в комиссионку все семейное серебро, станет скрипеть о ничего не стоящей чашечке!
Когда брату было шестнадцать лет, и одна девочка казалась ему похожей на Дину Дурбин, и поэтому постоянно нужны были карманные деньги, он тайно продал ложки и вилки с монограммами N. G. от варшавского мастера на вес.
— Теперь я раскаиваюсь! — грустно скажет Мурзинька.
И Серафима встанет перед ним, и положит руки ему на плечи, и заглянет в родные глаза брата, такого уже осанистого, с высокими залысинами у висков, со множеством старых порезов токарной стружкой на руках, с ладонями, в которые навеки въелась металлическая пыль, и скажет, почти плача от жалости и любви к нему: