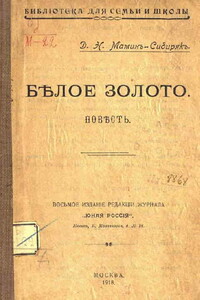Том 8. Золото. Черты из жизни Пепко | страница 108
— Да ты с ума сошел, безумная голова? — накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. — Куда залез-то?..
— Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой… — весело ответила голова Тараса из ямы. — Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму… Разделимся как-нибудь.
— Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.
— Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч соблаговолил отвести деляночку… Его спроси.
— Ну, это уж ты врешь!..
— Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава богу, всем матушки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглубь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы… Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он…
Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.
— Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! — кричал вслед ему Мыльников, — как бы самому же напиться не пришлось… Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обыщу, что не поздоровится. А ты, Окся, что пнем стала? Чему обрадовалась-то?
Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой.
«Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».
Карачунский, действительно, не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.
А Мыльников копал себе да копал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.
— Эй, тятенька, шевели бородой! — покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.
Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, — уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.