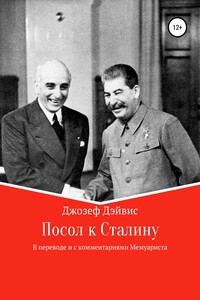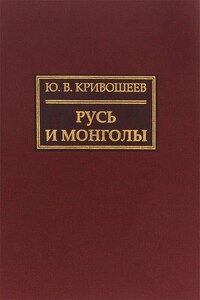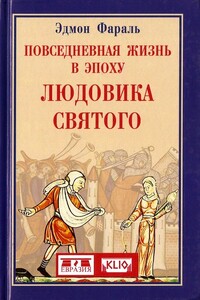Варварские нашествия на Европу. Вторая волна | страница 98
Несомненно, следует настаивать на аналогии, имеющей место между судьбами двух ветвей румынского народа; в обоих случаях уничтожение городской жизни и политических структур вызвало одну и ту же защитную реакцию: «переход к земледелию», возврат к доримским земледельческо-животноводческим формам (Цепочки свидетельств, касающихся румын Дакии и Македонии находятся в явном противоречии. По поводу территории к северу от Дуная между III и XI вв. нет ни одного текста; к югу сохранились некоторые топонимы (Дуросторум/Силистра, Haucc/Ниш), и можно сослаться на некоторые тексты, собранные Вольфом, The second Bulgarian Empire (97; 203–206)). Этот процесс начался при Аврелиане в большей части Дакии, при Юстиниане и его первых преемниках — к югу от Дуная, но, по своей сути, он идентичен. После него уцелела лишь небольшая часть населения. Земля в основном оказалась заброшенной, этим и воспользовались славяне. Что касается долгого безмолвия, которое окутывает северных румын до XII в., то оно не более удивительно, чем то, которое в течение еще более длительного времени скрывает истоки албанского народа, другого дославянского осколка, обнаружившегося в западном Иллирике.
Целый ряд «валахских» островков (греч. Blachoi, нем. Walchen) (о которых мало что известно), сохранившихся по всему дунайскому предгорью, от Швабии до Трансильвании, следует рассматривать как одно целое. Самые западные были в конце концов германизированы, а находившиеся в центре — затоплены мадьярским нашествием. Сохранились только те, которые располагались на востоке и юге. Настоящая загадка состоит не столько в факте их выживания, сколько в необычайном демографическом богатстве этих островков в Трансильвании, в то время как аналогичные анклавы на Балканах лишь постепенно хирели. Однако этот стремительный рост населения не относится к периоду вторжений, а, по-видимому, датируется XII–XIII веками.
Многообразие славянского мира
Представление об общности своих интересов было присуще славянским народам раннего средневековья в еще меньшей степени, чем германцам в период после окончания первой волны завоеваний. Без сомнения, территориальная и лингвистическая сплоченность оставалась относительно большой (тем более что долгое время между северными и южными славянами продолжали существовать «мосты» через сегодняшние венгерские и румынские владения; еще в начале нашего (XX) века хорваты Бургенланда, болгары Добруджи и Бессарабии поддерживали эти связи). Однако после VI в. уже не следует рассматривать славян как единое целое, а главное, стоит остерегаться постоянного противопоставления «германцев» и «славян» как сложившихся и, естественно, антагонистических общностей. Лингвистические концепции не лишены своей полезности, но они не должны переноситься на экономическую и даже политическую сферы. Так, польские и чешские вожди X в. руководствовались отнюдь не идеей создания национальных славянских государств, а стремлением занять среди европейских государей место, хоть сколько-нибудь сопоставимое с тем, которое отводилось германским локальным правителям, в то время как равенство же с императором, очевидно, было недостижимым. Это отсутствие национальной славянской идеологии, по мнению византинистов, само собой разумеющееся в ранние эпохи, еще слишком часто недооценивается историографией Центральной Европы. Повторим также, что не существует «общеславянского права», что почти отсутствуют общеславянские государственные институты, и что от края до края обширных славянских владений практически не найти характерного славянского археологического пласта. Нет также никакого отчетливо индивидуального славянского стиля в искусстве. Лишь греческое христианство придало всей той части славянского мира, которая его приняла, мощный фактор интеллектуального единства — общий церковный и литературный язык, старославянский, который сохранял все свое значение вплоть до начала XVIII века. Народы, примкнувшие к католицизму, приняв латинскую культуру, которая затронула лишь узкие элиты, не испытали на себе такого влияния.