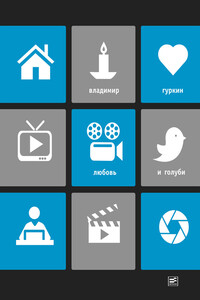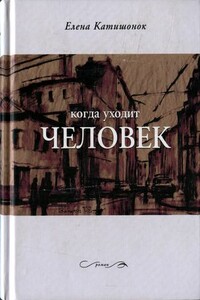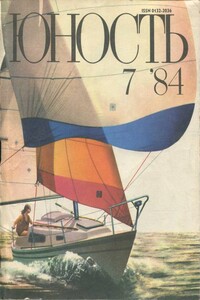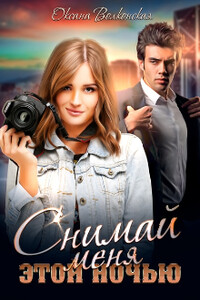Пир в одиночку | страница 36
И вдруг:
– Разрешите мне!
Посланник… К удивлению зала и моему, признаться, тоже. Только что сидел, ласкал усики, с Кафедрой Иностранных Языков шептался, на женщину со змейкой посматривал и вот уже стоит. Нет, идет, неторопливо поворачивается лицом к притихшей публике. Кто-то спешно прикрывает окно. Стекло вспыхивает, солнечный блик скользит по рядам, отражаясь в глазах – точно десятки маленьких линз сверкнули одновременно.
Я защищен от подобной бесцеремонности. От чужих глаз защищен – спасибо Посланнику! – от чужих ушей, от чужого праздного любопытства. Лишь Три-a знал о моем существовании – не догадывался, как кое-кто, а знал наверняка, – но Три-a нет на свете, глухонемая же чета, те единственные, с кем я общаюсь, видит во мне только соседа – я надеюсь, хорошего, – да часовых дел мастера.
Последнего, по-моему, они ценят больше. Наручные часики не приносили, правда, ни разу – то ли везет с наручными, не ломаются, то ли в мастерскую отдают, а вот настенные, с боем, который время от времени пропадает, притаскивали.
Зачем бой глухонемым? Как вообще узнают, что часы, закапризничав, смолкают? Я-то не задаю подобных вопросов – это Посланник, который в курсе некоторых моих дел (немногих!), любит позабавить знакомых байками о глухих супругах, улавливающих сверхъестественным каким-то чутьем голос скрытого от глаз механизма. Не знаю, не знаю… А что, если лишенные слуха ощущают скрытое от глаз лучше, чем мы? Им ведь ничто не мешает: ни людская болтовня, ни транзисторы, ни позывные «Маяка», столь милые сердцу моего педанта, ни гул улицы за распахнутыми окнами. (Закрыли еще одно; Борода, покряхтев, – не ожидал, как и я, такой прыти от вальяжного автомобилиста! – опустился на место.) О миг беззвучья! Не только ранним утром случается, до первых вскриков электрички, заменивших петушиное пенье (в Грушевом Цвету не держат кур), но порой и днем, посреди, например, жаркого пляжа, на который счастливоусталый купальщик выходит из воды с маской и ластами. Гвалт, смех, хлопанье мяча, детские крики – и вдруг все быстро и как бы наискосок уходит. Тишина… Звонкая тишина сжимает уши, будто, погрузив в прохладную воду лицо – затылок же солнце припекает, – вновь парит белотелый пловец над бородатыми, живыми, зелеными от шевелящихся водорослей камнями… «Астахов? – переспрашивает беззвучно. – Толя Астахов?» И толстяк с лупящейся кожей подтверждает: да, Астахов – он только что говорил с Москвой. Подробностей не знает и Астахова тоже не знает – сколько ему, любопытствует, годков-то было? Вздохнув, к воде шлепает, входит в воду, но окунуться долго не решается. Сдирает с груди розовую кожицу, дует, вытянув губы, лоскутки нехотя летят…