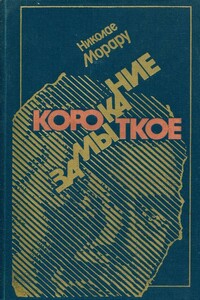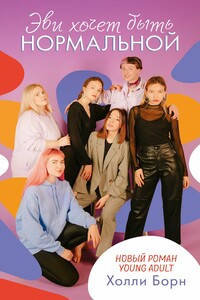Новый мир, 2010 № 02 | страница 24
Я мог бы также упомянуть о двух личных обстоятельствах, которые играли некоторую роль в этом выборе.
То, что именовалось советской литературой, вызывало у меня с младых ногтей неодолимое отвращение, приводившее к тому, что сам печатный лист казался подозрительным. Меня оставляли равнодушными наиболее популярные советские романы, например «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», любимое яство советской интеллигенции. «А может быть, ты хочешь ключ от квартиры, где деньги лежат?» Вам нравятся шутки такого типа? Смешно? Я нахожу их столь же пошлыми, как и одесские анекдоты.
Кроме того, по традиции, классические авантюрные романы, «Жиль Блаз» Лесажа или — в России — «Приключения, почерпнутые в море житейском» Виктора Нарежного, призывали милость и жалость к падшим, как и вся русская литература, советские же сочинители подобного рода весело призывали к растоптанию павших. В упомянутых романах Ильфа-Петрова выведен нелепый и недостоверный тип русского интеллигента Лоханкина, который изъясняется то ли гекзаметром, то ли пятистопным ямбом, объявляет голодовку в знак протеста против ухода жены и размышляет о вечном, — в это время за окнами коммунального бедлама происходит неслыханное истребление русской интеллигенции!
Цензура, одинаково свирепая и к литературным журналам, и к изданиям по свиноводству, приводила к тому, что становиться на горло собственной песни или на грудную клетку собственного романа (гораздо реже на собственный кошель) стало непременным условием существованиясоветской литературы. И хотя изредка в этот затхлый мирок советской печати с трудом проникал свежий ветер (проза Солженицына, ранние рассказы Максимова), молодежь диссидентской окраски в основном духовно и артистически окормлялась самиздатом (тамиздат начинал лишь прилетать по неведомым воздушным путям).
Лишь оказавшись в эмиграции, я понял, до какой степени был по своей сути трагичен и глубок разрыв между русской и советской литературой, между Россией и СССР, разрыв, который, опасаюсь, будет длиться множество десятилетий после падения коммунистических бетонных бункеров, бастионов и прочих темниц. Любопытно отметить, что, за редкими исключениями, те, коими ныне представлена русская литература XX века, — Бунин, Олеша, Булгаков, Набоков, Ахматова, Цветаева и иные, — либо сформировались как художники до революционного переворота 1917 года, либо провели жизнь в эмиграции...
Помимо этого, одно из плодотворных влияний Достоевского заключалось в пробуждении интереса к религиозным и философским проблемам. Шестнадцатилетним подростком я любил посещать подмосковные церкви в Удельной или Вишняках (они находились на полпути между Москвой и Раменским, в котором местный храм был варварски превращен в пивоваренный завод), но лишь после чтения Достоевского этот интерес получил, так сказать, интеллектуальный импульс. Неожиданно для меня самого многие страницы гонимого автора прозвучали несоизмеримо актуальней и животрепещущей, чем только что вышедшая газета. В течение нескольких лет я приобщался к тому, что ныне называют русской религиозной философией начала ХХ века. И хотя я убежденный сторонник разделения властей, государственной и политической, религиозной и эстетической (религиозный ангажированный роман — явление столь же плачевное, как производственный роман, и не служит ни религии, ни искусству), думаю, что золотой византийский луч русского Православия, просиявший в метафизических зорях тех лет, часто был мне путеводной Полярной звездой, в том числе и литературной.