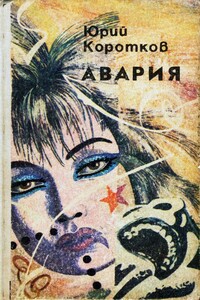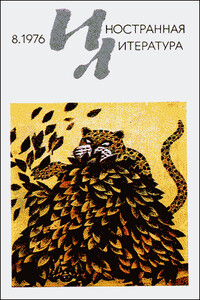Новый мир, 2005 № 08 | страница 20
Это не было дежурной фразой: мне и в самом деле казалось, что после первых публикаций для Ирины Полянской широко распахнутся двери журналов и издательств. Однако жизнь не торопилась подтверждать прогнозы. Первая книжка писателя пролежала в “Молодой гвардии” еще лет пять или шесть, ожидая начала “перестройки”, журналы тоже не баловали автора. Не знаю сейчас почему, но нам так и не случилось познакомиться после той моей рецензии, и я не знала, сколько у Полянской написанного, в каком соотношении оно находится с опубликованным и чем она вообще занята. Публиковалось же не так много, редкие рассказы, и, хотя все они были отличного качества, мне казалось, что потенциал автора явно не реализован. Ее участие в сборнике “Новые амазонки”, декларировавшем в конце восьмидесятых появление на литературной арене новой женской прозы, показалось мне приемом тактическим: уж слишком яркой индивидуальностью была Полянская, слишком уверенным было ее перо, чтобы входить в литературу через запасную калитку “женской литературы”.
О ней по-настоящему заговорили лишь после публикации “Новым миром” в 1997 году романа “Прохождение тени”. Это была мастерски сделанная вещь зрелого писателя. Я не слишком удивилась, обнаружив в ней рудименты первой повести. Позже, в нескольких своих интервью, писательница рассказала историю своей семьи, необычайную даже на фоне причудливых судеб нашей эпохи. Она родилась в 1952 году в той самой уральской шарашке, которая была описана Даниилом Граниным в “Зубре” и где отбывал заключение ее отец, видный ученый-химик, в чем-то повторивший судьбу своего доброго знакомого Тимофеева-Ресовского. За плечами у него был добровольный уход на фронт с московским народным ополчением, немецкий плен, от которого избавил случай и свободное владение немецким языком, работа на фармацевтической фабрике в Германии, настойчивое предложение американцев, в оккупационной зоне которых он оказался, продолжить научную работу в США и его непреклонное решение вернуться на родину, которая встретила его, разумеется, тюрьмой, допросами и колымскими лагерями. Он уже умирал от истощения и цинги, когда задачи форсирования работ над атомным проектом заставили Берию начать выдергивать ученых из лагерей и отправлять их по шарашкам. “Когда мама приехала к отцу в эту знаменитую зону, она была первой „разрешенной” женой в этой „шарашке”. Там я и родилась на свет, там, за колючей проволокой, и провела первые шесть лет своей жизни”, — рассказывает Ирина Полянская. По ее собственному признанию, она была с раннего детства “буквально напичкана этим семейным эпосом”. Не только, впрочем, героическим, но и трагическим. Декабристский порыв матери, отправившейся за колючую проволоку по зову давно исчезнувшего мужа, жертвуя новой любовью, не принес лада в семью. “Поэтому оставалось одно — труд как подвиг и искусство как отдушина, некая экзальтированная защищенность культурой от царящего вокруг разора и пошлости”, — рассказывает Полянская, признаваясь, что весь этот материал ее долго не отпускал, определяя “сознательную и даже подсознательную жизнь. Странно, но я уже в возрасте четырнадцати лет твердо знала, что опишу все это”.