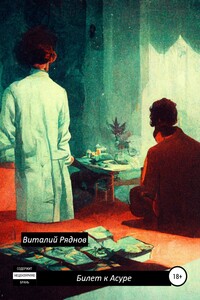Новый мир, 2009 № 11 | страница 82
Сейчас говорить было не о чем. Молчали, стряхивали пепел. Где мы ехали? Это была первая или уже вторая ночь? Голова гудела, подташнивало. Я решил больше не пить до самого дома. А может, вообще никогда. Вдруг снова отключится речь? Хорош будет подарок моей художнице и сыну. Я и так-то чувствовал себя… тем ещеподарком. Не знаю, но иногда мне наедине с самим собой становилось не по себе. Были такие два-три момента.
В общем-то, наедине там не побудешь, всегда кто-то рядом. Посмотришь — такой же, как ты, и отступают все раздумья-печали. Да и какие печали? Никаких печалей. Тем более раздумий. Не моей это башки дело.
Хотя, честно признаться, я старался времени даром не терять, подтягивал себя, занимался самообразованием, пусть это и звучит дико: где? там?
Ну да, там. Свободного времени бывало навалом, особенно зимой, когда война затихала, так что я не верю тем, кто говорит, будто он, не разгибаясь, пахал два года… кровь мешками… письма писал, сидя на трупе врага… и какие еще книги! Была и кровь. Или как у меня — просто язык отнялся, голова тряслась. Но в каждом полку имелась и библиотека, в клубе кино показывали, потом появились даже телевизоры. Так что зимой можно было окунуть нос в разумное, вечное.
И нашел я в одной книжке идею про вечное возвращение. Суть ее проста и чудна: все всегда повторяется. Сначала мне показалось это какой-то ерундой: ну как повторяется? Даже скучные однообразные дни гнилой афганской зимы в полку с расквашенным плацем, грязными дорогами и окопами, заплывшими водой и глиной, эти дни, начинающиеся с оголтелого вопля дежурного невыспавшегося сержанта “Подъем!” и наполненные одними и теми же действиями: завтрак, построение, уборка территории, политзанятия, обслуживание автопарка, чистка оружия и т. д. и т. п. и заканчивающиеся вялым криком уже другого сержанта: “Отбой!”, — даже они все-таки отличаются чем-то друг от друга. Может быть, по прошествии лет эти дни и сольются в нечто трудноразличимое, но пока ты здесь, под этим небом, накрывшим палатки и длинные щитовые домики, каждый день особенный, ибо он всегда полон до краев хотя бы тоской по жизни иной, по дому, странным лицам жены и сына. Да, они мне казались какими-то необычными, с каждым днем это чувство только усиливалось, я мысленно повторял их имена — Инна, Александр — и все меньше верил, что знаю их, особенно Александра, впрочем, и Инну, присылавшую мне рисунки комнаты, призрачного малыша, улиц города, автопортрет. Тоска — состояние души совсем не серое. Ожидание напитывает тоску красками, напряжением. По крайней мере, сны. Ну и днем ты и думаешь об этих снах. Наматываешь портянки, месишь грязь сапогами, вычерпываешь жижу из капониров (“Не на подлодке служите, товарищи солдаты!”) и вспоминаешь сны; сидишь вечером у гудящей чугунки, сушишься, тайком покуривая (в палатке нельзя), и повторяешь про себя: Инна, Александр; ну а заступив на дежурство, пьешь почти чифирь, чтобы не спать, и при свете керосинки читаешь “Взгляд на всемирную историю”, про Македонского или Чингисхана, оба, кстати, бывали в этих краях, услышишь, как всхрапнет кто-то или забормочет, застонет… хм, мелькнет мысль, а ведь и это… история? Пусть не всемирная, допустим, а местная, локальная… но кто его знает, как говорит прапорщик Капелька, сияя тугими щеками, может, оно так и есть? может, оно так и надо? Может, какому-нибудь македонцу безвестному тоже так казалось? Дескать, не битва с амазонками, чай, или сражение титанов, а так, по мелочам, глотаем пыль, кормим вшей, наверное, и их вши донимали.