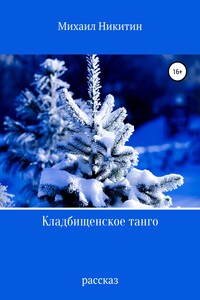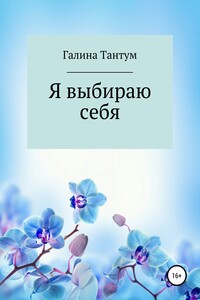Новый мир, 2009 № 11 | страница 69
Немногие, да.
Это как в старом анекдоте про еврейского сына, что экономил на телеграммах и кричал из поезда отцу, стоящему на платформе: “Папа, ты какаешь?” И был прав, потому что через утвердительный ответ узнавал не только о пищеварении, но и о благосостоянии. То же самое с туризмом. Много лет назад советский человек, что побывал за границей, демонстрировал это не только через воспоминания и даже не через купленные там вещи или отоваренные здесь чеки “Берёзки”. Это значило, что он был выездным, что он был абсолютно социализирован, он был успешен и как бы половой гигант в социальном смысле. И чем дальше его пустили — в Улан-Батор, Будапешт, Белград или Париж, всё что-то означало.
Так и теперь — сначала все ездили в Турцию, потом в Египет, затем на Кипр. Потом настала пора Европы, затем подвалила экзотика с непроизносимыми названиями. Сейчас в приличном обществе нельзя признаться в путешествии в Анталию: на тебя посмотрят как на неудачника, что делил описанное море с бухгалтершами из Торжка.
Меня всегда забавляли горделиво вывешенные карты Ойкумены, где красным закрашивали посещённые страны (при визите в Нью-Йорк автоматически краснела и Аляска). Но я-то сам меж тем рассуждаю сам с собой о том, какой тип перемещения по миру более честен внутри моей собственной системы координат. Есть случай Канта, который вообще никуда не ездил, кроме как перемещался по Восточной Пруссии (хотя теперь там то Польша, то Литва). Между прочим, этот домосед умудрился читать географию как науку, и, по отзывам современников, довольно занимательно.
Есть случай профессионального путешественника — какой-нибудь Амундсен, к примеру. Вот раздражает меня Амундсен? Вовсе нет. Конюхов, правда, отчего-то раздражает.
Нынче же все едут. Самолёты “Пан-Америкэн” и “Эр-Франс” несут моих друзей туда, где никакой Макар не стал бы гонять своих телят. Панург знал не только 63 способа добывать деньги, но и 214 способов их тратить. Остап Бендер знал только один способ тратить деньги — поехать в Рио-де-Жанейро, а уж мы-то, верные дети командующего флотом лейтенанта, не уверены даже в этом.
Кто летит, а кто и плывет, то есть, вернее, идёт.
Недаром О. Рудаков сказал мне с важным видом: “Navigare necesse est”, что значит “мореплавание необходимо”.
Но я-то знал продолжение этой старой морской поговорки: “…vivere non est necesse”, которая учила тому, что жить не так необходимо...
А вот таинственный батискаф, в котором сидит мой друг Рудаков, отплывает из Владивостока и плывёт на манер новой подводной лодки “Пионер” через весь земной шар, чтобы разгадать тайны всех его океанов. Сперва он движется на юг, проходя Японское море. Рудаков рассматривает в перископ иностранный город Нагату на одном его берегу и такой же нерусский город Пусан на другом. Ещё он рассматривает через специальный глазок всякую морскую нечисть, которая резвится вокруг него. Брезгливо щурится Рудаков на мелкое Восточно-Китайское море. Около острова Тайвань, иначе называемого Формозой, он разворачивается налево и выходит в Великий океан. Батискаф, в котором плывет Рудаков, проходит мимо бывшего архипелага Бисмарка, скрежещет днищем о кораллы, никем ещё не украденные. В проливе Торреса Рудаков ещё ищет взглядом промышленно важные марганцевые конкреции, притаившиеся на шельфе и похожие на красных черепашек, но у острова Тимор он отворачивается от иллюминатора. Государственное предназначение его странствия забыто, и он открывает спрятанный штоф. Достигнув Мальдивских островов, он принимает на грудь. Он пьёт и вспоминает меня — да, да, я знаю. Он вспоминает меня, задумавшегося посреди улицы, так и не сумевшего выбрать — продолжить путешествие или заснуть.