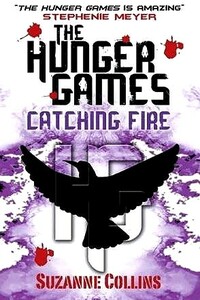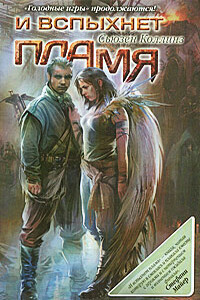Голодные игры | страница 66
Цинна поднимает бровь: честно!
— Вы имеете в виду, после того как я перестала бояться, что сгорю заживо?
Взрыв хохота, неподдельного, со стороны зрителей.
— Да, именно, — подтверждает Цезарь. Кому-кому, а Цинне стоило об этом сказать.
— Подумала, что Цинна замечательный, и это — самый потрясающий костюм из всех, какие я видела. Я просто поверить не могла, что он на мне. И не могу поверить, что сейчас на мне это платье. — Я расправляю юбку. — Вы только посмотрите!
Пока зрители ахают и стонут, Цинна едва заметно показывает пальцем: покружись! Я делаю один оборот, вызывая еще более бурную реакцию публики.
— О, сделай так еще! — восклицает Цезарь. Я поднимаю руки вверх и быстро вращаюсь, снова и снова, чтобы юбка развевалась, и меня охватывали языки пламени. Народ безумствует. Остановившись, я хватаюсь за руку Цезаря.
— Не прекращай! — просит он.
— Придется. У меня все плывет перед глазами! — хихикаю я; наверное, первый раз в жизни я веду себя так легкомысленно, опьянев от страха и кружения.
Цезарь обнимает меня рукой:
— Не бойся, я тебя держу. Не позволю тебе последовать по стопам твоего ментора.
Толпа дружно гикает и улюлюкает, когда камеры выхватывают Хеймитча, прославившегося своим нырком головой вниз со сцены во время Жатвы. Хеймитч добродушно отмахивается от операторов и показывает на меня.
— Все в полном порядке. Со мной она в безопасности, — уверяет Цезарь зрителей. — А что насчет твоего балла за тренировки? Одиннадцать! Не намекнешь, как тебе удалось получить столько? Чем ты отличилась?
Я бросаю взгляд на балкон с распорядителями Игр и прикусываю губу.
— А-а… все, что я могу сказать… думаю, такое случилось впервые.
Все камеры наставлены на распорядителей, которые, давясь от смеха, кивают в знак согласия.
— Ты нас мучаешь! — говорит Цезарь так, будто ему и впрямь больно. — Подробности! Подробности!
Я поворачиваюсь к балкону.
— Мне ведь лучше не рассказывать об этом?
Мужчина, упавший в чашу с пуншем, кричит: «Нет!»
— Спасибо, — говорю я. — Мне жаль, но ничего не поделаешь. Мой рот на замке.
— В таком случае давай вернемся к Жатве, к тому моменту, когда назвали имя твоей сестры, — предлагает Цезарь; его голос стал тише и серьезнее, — и ты объявила себя добровольцем. Ты не могла бы рассказать нам о ней?
Нет. Ни за что. Только не вам. Но… может быть, Цинне. Мне кажется, я даже вижу сострадание на его лице.
— Ее зовут Прим, ей всего двенадцать. И я люблю ее больше всех на свете.
Над Круглой площадью повисла тишина.