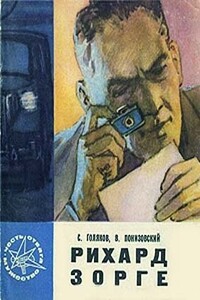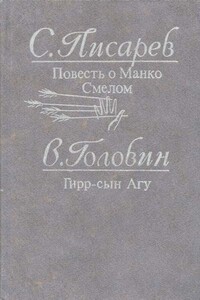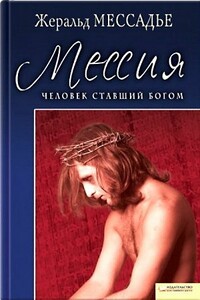Заговор генералов | страница 18
Ночами Ольга Львовна обнимала его, шептала:
— Зачем, Саша, зачем? Подумай о детях, обо мне!
— Я знаю, Люлю, до какой грани можно, — успокаивал он. — Я же юрист. Не забывай: я и депутат, неприкосновенная личность!
— Ну и что? Вон депутатов социал-демократов угнали в Сибирь!
— Пойми, Люлю, то были большевики. Они выступали против войны и узаконенного строя: «Поражение своего правительства и превращение империалистической войны в войну гражданскую»! Повторяли вслед за своим Ульяновым-Лениным. Кощунственно! Я сам бы отправил их на каторгу. Все знают: я жажду победы над германцами. Но я жажду и свободы трудовому народу. Я могу, пожалуй, найти общий язык с теми социал-демократами, которые остались в Думе, с меньшевиками. Но по духу мне ближе социалисты-революционеры, только без их крайностей. Тебе этого не понять, Люлю…
В полночь, в спальне говорить с любимой женщиной о политике? Но он ощущал себя политиком до мозга костей, каждой клеткой организма. И в любую минуту жизни. Это его стихия! Речи с трибун. Гром аплодисментов и негодующий рев. В четвертой Думе он стал лидером группы трудовиков. Их было всего девять — почти наполовину меньше, чем даже социал-демократов. Но все равно — лидер. Среди кадетов он вряд ли мог выдвинуться, там правит Милюков. Об октябристах и говорить нечего — в кармане пусто.
Когда-то, на заре юности, он отдал дань и опасным увлечениям. Нет, его не прельстили анархисты, сторонники князя Кропоткина или последователи Бакунина: его душа не лежала к отрицанию всех начал, его натура протестовала против молодецки-разудалого разгула. Его взволновали звонкоречивые, озаренные вспышками бомб, рвавшихся под колесами царских и министерских экипажей, лозунги социалистов-революционеров. Отрываясь от составления прошений и жалоб в конторе столичного присяжного поверенного, к которому Александр Федорович записался после университета, он с упоением читал нелегальные брошюрки. В пятом году, в числе других двухсот, подписал коллективный протест против ареста депутации, во главе с Максимом Горьким посетившей министра внутренних дел накануне Кровавого воскресенья. В конце того же смутного пятого года он был арестован и обвинен в принадлежности к боевой группе эсеров: при обыске у него нашли револьвер, воззвания преступного содержания и сомнительную переписку. Он клялся, что ни к какой боевой группе отношения не имеет. Действительно, даже в мыслях подобного не было. Но тогда, в декабре, в разгар расправ в Москве на Пресне, могли отправить в Трубецкой бастион или на Лисий Нос, под «столыпинский галстук» — как пить дать. «Поверьте, господа, я не только не боевик, а и вообще не эсер. Что до револьвера, так кто нынче не вооружен — всюду жулье, бандиты. А воззвания — так ими в дни свобод были облеплены все стены!..»