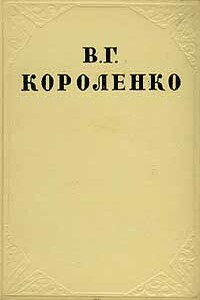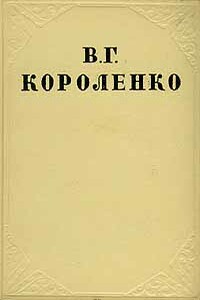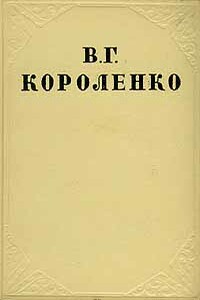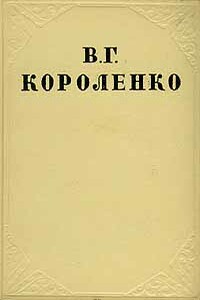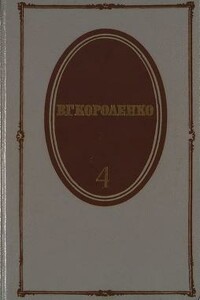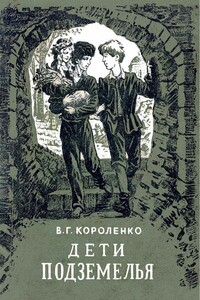Том 8. Статьи, рецензии, очерки | страница 84
Времена были суровые. В Киеве свирепствовал военный прокурор знаменитый Стрельников, терроризировавший даже судей и добивавшийся нередко самых суровых приговоров вплоть до смертной казни по ничтожным поводам. Долго просидев в крепости, Богданович на суде произнес остроумную речь, в которой указал судьям на фантасмагорическое несоответствие между статьей 249, карающей смертной казнью за деяния, грозящие ниспровергнуть насильственным образом существующий строй, и… «восемьдесят одной точкой», найденной в его квартире. Эта речь, а, может быть, также молодость и симпатичность юного студента способствовали тому, что Богданович даже стрельниковским военным судом был оправдан. Но университетская карьера его была прекращена высылкой из Киева в Нижний.
В то время, к которому относится наше знакомство, А. И. Богданович жил в Нижнем уже третий год, занимаясь частными уроками. Семья его переехала в другой город. Он был одинок, и настроение его было довольно пессимистическое. В свободные часы он усердно штудировал Шопенгауэра, который в то время читался молодежью так же сильно, как в 90-х годах более, впрочем, легкий Ницше. К своей недавней революционной карьере он относился иронически, о «положении вещей» и возможности борьбы за лучшее отзывался с насмешливой горечью, речи его были пересыпаны парадоксами и сарказмами. Но под всем этим чувствовалось горячее сердце и беспокойный ум, ищущий все-таки выхода и решений. Вскоре все в нашей семье привязались к молодому пессимисту, и часто в нашей скромной квартирке слышались его желчные, порой остроумные выходки, возражения и споры.
В то время он все еще продолжал мечтать о довершении медицинского образования, и, несмотря на то, что он прошел всего три курса, — он любил давать медицинские советы, обнаруживая при этом познания, значительно превышавшие его университетский ценз. Нам всем казалось тогда, что настоящее призвание Богдановича была медицина. Часто у нас говорили, смеясь, что при некоторой желчности и способности к интуициям и отгадке, — из него когда-нибудь выйдет новый Захарьин…
Судьба, однако, судила иначе.
Я тогда, после почти шестилетнего перерыва пытался опять вернуться к литературе и сразу же начал много работать также в местной приволжской газете «Волжский вестник» в качестве корреспондента из Нижнего. Время тогда, в половине восьмидесятых годов, было глухое, тяжелое. Общественные интересы во всех областях жизни упали. Общество проявляло совершенное равнодушие даже к близким земским и городским вопросам. Заседания думы и земства происходили при полном отсутствии публики. На весь обширный Нижегородский край был, кажется, единственный постоянный корреспондент, еврейский казенный раввин Б. И. Заходер, посылавший корреспонденцию в несколько газет. Это был человек довольно интеллигентный и доброжелательный, но писал он сухо и протокольно. Кроме того, как официальному, а отчасти и неофициальному посреднику между еврейским населением и местной администрацией — ему было неудобно восстановлять последнюю против себя, и потому многое, что совершалось под покровом «сильной власти» тогдашнего губернатора, Н. М. Баранова, — оставалось совсем без освещения в печати. Между тем, в это глухое время особенно сильно чувствовалась потребность шевелить хоть ближайшую, окружающую среду, открывать форточки хотя бы и в том помещении, где приходится жить и работать.