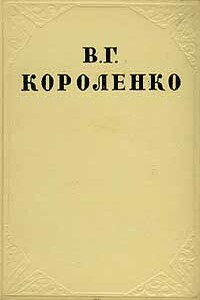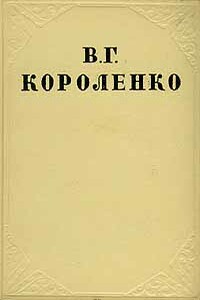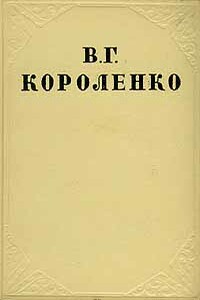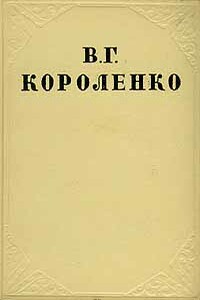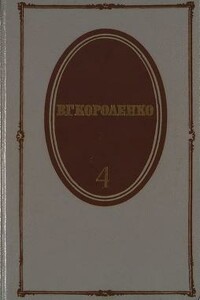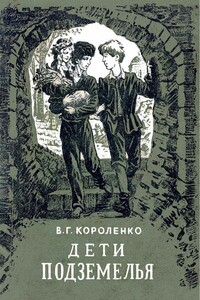Том 8. Статьи, рецензии, очерки | страница 80
Толстой в высокой степени умел отражать в своих произведениях эту черту интеллигентной души, ищущей правды среди сознанной неправды жизни. Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», много других лиц в разных рассказах — все это люди мятущиеся, чувствующие душевный разлад, ищущие правды и, как сам Толстой, тоскующие о душевном строе, цельном и без разлада между мыслью и делом. Такой душевный строй мы называем «непосредственностью». У Толстого всю жизнь была тоска о непосредственности.
Такого разлада не знает простой народ. Он жил века в угнетении, долго «все терпел во имя Христа», трудился и надеялся, совсем не задумываясь над причинами общественного неустройства, все приписывая судьбе. Толстой всегда завидовал этому душевному состоянию простых людей. Еще в молодости он преклонялся перед иными крестьянами до такой степени, что одно время старался подражать работнику Юфану даже в движениях. Потом, уже став великим писателем, угадывал и заражался настроениями простых душ. В «Войне и мире» он изобразил солдатика Каратаева, который совсем не умеет выразить своих мыслей, но который казался ему воплощением глубокой мудрости. Толстой успел внушить это свое преклонение перед народной непосредственностью читателям и критикам, и одно время «каратаевщина» служила выражением глубокой народной мудрости. То же нужно сказать об Акиме Простоте во «Власти тьмы», который не может вылущить своей мысли из корявой оболочки: «таё, таё», но устами которого тоже говорит высшая мудрость народа.
Эта способность заражаться народными настроениями определяла крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого. В «Войне и мире», изучая историю отечественной войны, он проникся настроением борьбы за отечество до такой степени, что почти оправдывал убийства партизанами пленных. Потом его стала привлекать смиренная народная вера, и от нее он перешел к первобытному христианству. Отсюда его теория о непротивлении. Нельзя противиться злу насилием, хотя бы даже дикари-зулусы начали убивать и резать нас, насиловать женщин, избивать детей. Лучше погибать, чем защищаться силой. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, — мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны в этой великой душе, тоскующей о правде жизни. В нем, несомненно, зарождалось опять новое. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина. Произошло покушение на Лауница. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их головы. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно в свою очередь начинало заражать Толстого. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой: