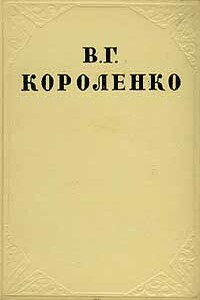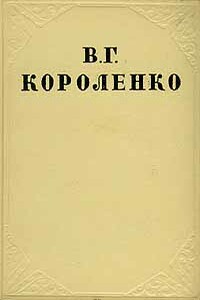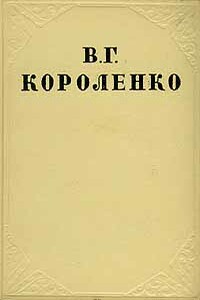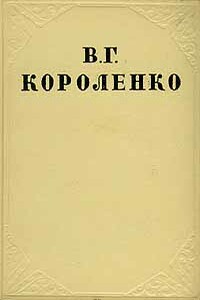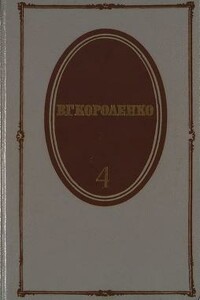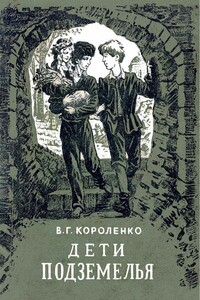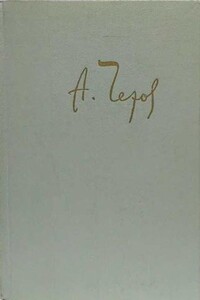Том 8. Статьи, рецензии, очерки | страница 75
О Толстом в то время говорили уже очень много, и из этих рассказов на меня, по тому моему настроению, особенное впечатление произвели следующие эпизоды. Однажды, кажется, через ту же г-жу Дмоховскую, с Л. Н. познакомилась г-жа У-ская, вдова нечаевца, умершего на Карийской каторге. Бедная женщина, слабая и больная, изнемогала в жизненной борьбе, стараясь вывести в люди единственного сына. Ей приходилось жить в тесной квартирке, без прислуги, самой носить дрова, стряпать и мыть полы. При встрече с нею Толстой посмотрел на нее, покачал головой и сказал растроганным голосом: «Какая вы счастливая! У вас есть настоящая, невыдуманная работа».
Эта фраза повторялась в интеллигентных кружках Москвы с укоризной и насмешкой.
Передавали также один рассказ Толстого, доказывавший универсальность его теории непротивления. Однажды он шел по улице. Рядом ехал мужик в розвальнях. Мальчишка захотел вскочить на розвальни сзади, но нога его провалилась в переплет. Заметив это, мужик погнал лошадь; испуганный мальчик прыгал на одной ноге за санями. Это ли не случай, чтобы кинуться к лошади и силой задержать ее? «У меня, — говорил будто бы Толстой, — проснулись старые инстинкты. Я готов был уже броситься на улицу и схватить лошадь под уздцы, но в это время все разрешилось без моего вмешательства: мальчик упал, нога выскользнула из переплета, а мужик уехал»…
Во всех этих бесчисленных рассказах, которые реяли, точно мухи, вокруг Толстого-проповедника, мне чуялся какой-то самодовольный догматизм человека, ушедшего от мучительных житейских противоречий и теперь тщательно закрывавшего все щели своей наскоро сооруженной часовенки, чтобы до нее не достигали отголоски живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни. Сам я в то время чувствовал себя на распутье: растеряв много догматов, я искал новых формул. Но толстовское решение казалось мне слишком простым, слишком удобным и легким… А довольство своим решением, которое, казалось, я улавливал в настроении проповедника, мне в то время было органически неприятно.
И я решил, что не пойду к великому художнику, отрицающему искусство, мыслителю, отрицающему науку, искателю истины, успокоившемуся на узкой формуле полухристианского квиетизма. «Если уж евангелие, — ходила по Москве чья-то фраза, — то я предпочел бы евангелие от Иоанна евангелию от Толстого».
Так прошло несколько месяцев. Однажды, приехав в Москву, я застал литературный кружок, группировавшийся около Гольцева и «Русской мысли», занятым идеей какого-то сборника по какому-то особому случаю. Сборник должен был напоминать о чем-то и отчасти носить характер протеста. Составилась редакция, в которую вошел Гольцев, кажется В. С. Пругавин, H. H. Златовратский и я. В одном из собраний было решено пригласить к участию в сборнике Л. Н. Толстого, и задачу эту возложили на меня и на H. H. Златовратского.