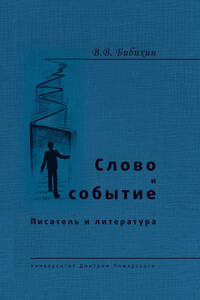Язык философии | страница 34
То, что время от времени появляются работы с таким или сходным заглавием, пусть не создает у нас впечатления, что где‑то сложился соответствующий научный предмет. Если в работах на тему «мысль и язык» эти понятия действительно оказываются сужены до большой отчетливости, то это сужение здесь в отличие от сужения понятий в теме «человек и закон» не имеет смысла.
В самом деле, «мысль» тут начинают представлять например в виде «определенных мыслительных содержаний», которые остается теперь, как это называется, «передать». Не принимается во внимание, что не только содержание, но и факт передачи, т. е. выбор между молчанием и речью, вплоть до отказа мысли от сказанного («нет, я не то хотел сказать», «лучше бы уж я ничего не говорил»), — тоже интимное дело мысли. Молчание, мы сказали, остается основой всякой осмысленной речи. Для него в плоскости «мыслительных содержаний» нет места.
От языка, в свою очередь, оставляется только акт именования как сопоставления «означающего» с «означаемым». Текучесть знака, его способность и отсылать к вещи, и нести на себе само ее присутствие, тем более то обстоятельство, что само молчание может неожиданно оказаться говорящим, остаются за схемой «мыслительное содержание находит себе словесное выражение».
Отношение мысли к слову одновременно и свободнее чем любые предлагаемые нам схемы, и обязательнее, строже, чем схема может обосновать. Мысль свободна. Она безусловно может какое‑то время или даже вообще всегда обходиться без слова. С другой стороны, мысль связывает наше слово потому, что она всегда заранее есть уже смысл, требующий слова и требуемый словом. Раньше всякого подыскания средств выражения для мыслительных содержаний мы или слышим слово мысли или не слышим его. Подыскание слова для мысли оказывается уже вторичным поступком, пересказом, переводом неслышного смысла. Слышимая речь это всегда уже некое «иначе говоря». «Иначе говоря» направлено в две стороны, не только к тому, как я, иначе говоря, переизложу свою мысль, которая с самого начала была смыслом, т. е. словом в своей основе, но и к самой первичной мысли. Конечно было бы смешно, если бы едва начиная говорить я пояснял: «иначе говоря…» Тем не менее всякое наше высказывание с самого начала оказывается переводом. Мы говорим заведомо иначе чем как слышим или можем услышать слово мысли, и вовсе не потому что плохо подыскали слова. Подыскивание слов, всё равно удачное или неудачное, свидетельствует о работе интерпретации, одинаково имеющей место в том и другом случае.